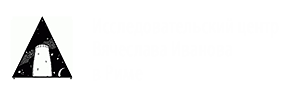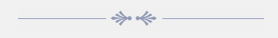
События
КОПЬЕ АѲИНЫ
КОПЬЕ АѲИНЫ.
Аѳина строгая — копье.
I.
Ошибочно думаютъ о новыхъ исканіяхъ въ области художественнаго творчества тѣ, которые объединяютъ ихъ въ понятіи малаго искусства, изначала и по существу разсчитаннаго на постиженіе немногихъ, въ противоположность искусству большому, обращенному къ толпѣ. Какъ между отдѣльными стадіями эпохи этихъ исканій и отдѣльными ея представителями, такъ и въ самомъ понятіи малаго искусства необходимы точныя различенія.
Большого, всенароднаго искусства нѣтъ для современнаго человѣка, — быть можетъ, потому, что нѣтъ самого современнаго человѣка, какъ сущаго, т. е. достигшаго нѣкотораго статическаго типа бытія: есть типъ динамическій, потенціальный и текучій, всецѣло принадлежащій потоку возникновенія, генезиса, становленія. Между тѣмъ большое, или всенародное, искусство намъ было доселѣ извѣстно только какъ
отраженіе народнаго бытія, въ смыслѣ статическаго момента въ процессѣ эволюціи, — какъ творческое истолкованіе уже созданнаго, какъ творчество вторичное. Въ немъ художникъ — не зачинатель, а завершитель; органъ непосредственнаго народнаго самосознанія, онъ не имѣетъ иной задачи, кромѣ раскрытія самоутвержденія народнаго, когда это самоутвержденіе, въ опредѣленномъ циклѣ развитія, уже закончилось, и доколѣ оно еще не разложилось.
Потому эпохи истиннаго большого искусства, при высокомъ уровнѣ народной культуры, такъ рѣдки и такъ кратковѣчны; зато монументальное безсмертіе обезпечено его произведеніямъ, часто внѣ прямой зависимости отъ генія отцовъ ихъ. Ибо, когда заговоритъ музыка соборной души, не скоро замираютъ ея отзвуки въ соборной душѣ измѣнившихся поколѣній; да и самый языкъ соборной души всегда существенно одинъ, какъ голоса стихій — гулъ горнаго обвала, ревъ водопада или набатъ морского прибоя.
Статическій и соборный характеръ этихъ эпохъ дѣлаетъ ихъ по преимуществу эпохами стиля, который обычно напечатлѣвается на памятникахъ вполнѣ самостоятельнаго и въ себѣ завершеннаго зодчества и опредѣляетъ, въ сферѣ повседневной жизни, единство формъ художества домашняго, чему примѣромъ можетъ служить искусство древнѣйшей утвари и античныхъ вазъ строгаго образца.
II.
Эпохи становленія суть, по необходимости, эпохи малаго искусства; но это понятіе должно быть
принято какъ чисто отрицательное, образованное путемъ исключенія всего того, что не есть большое искусство. На самомъ же дѣлѣ оно объемлетъ, по крайней мѣрѣ, три типа искусства, имѣющіе между собою болѣе чертъ различія, нежели сходства.
И, прежде всего, — такъ какъ становленіе немыслимо безъ нѣкотораго синтеза его моментовъ въ представленіи относительнаго бытія, — есть типъ малаго искусства, такъ относящійся къ душѣ современности въ ея динамическомъ аспектѣ, какъ большое искусство относится къ душѣ соборной въ ея аспектѣ статическомъ. Этотъ типъ, въ отличіе отъ искусства всенароднаго, можетъ быть названъ искусствомъ демотическимъ, — терминъ, въ иномъ смыслѣ употребленный Геннекеномъ въ примѣненіи къ роману, обнимающему цѣлокупность явленій общественной или народной жизни даннаго времени.
Различіе обусловлено, съ одной стороны, состояніемъ коллективной души, которую демотическое искусство находитъ раздѣленной въ себѣ и нецѣльной, не сущей, а становящейся или внутренне не опредѣлившейся, съ другой — сознательностью синтетической дѣятельности художника, ищущаго обратить становленіе въ нѣкій образъ бытія, тогда какъ творецъ искусства всенароднаго — іератическаго искусства древности или романско-готическаго искусства среднихъ вѣковъ, — говоря себя, непосредственно говоритъ народную душу. Сходство же этого типа съ искусствомъ всенароднымъ — въ томъ, что предметомъ его служитъ коллективная, а не личная душа, и что творческій геній говоритъ въ немъ ко всѣмъ и о всѣхъ.
Великій русскій романъ съ «Евгенія Онѣгина», какъ
и обще-европейскій романъ съ «Донъ-Кихота», пошелъ по пути этого типа. Формы, привитыя Риму Греціей, — римскій портикъ и вся почти поэзія римлянъ, — не могли создать тамъ искусства всенароднаго и сдѣлались элементами искусства демотическаго.
III.
Два другіе типа малаго искусства имѣютъ общею основой дифференціацію, какъ формальное начало становленія. Это — преобладающіе и отличительные типы эпохъ быстраго поступательнаго движенія народныхъ культуръ. Они обусловлены обособленіемъ отдѣльныхъ культурныхъ группъ и личностей съ одной стороны, отдѣльныхъ видовъ и моментовъ художественнаго творчества — съ другой. Мы различаемъ ихъ, какъ искусство интимное и искусство келейное. При всей общности выше-указанныхъ чертъ, оба эти типа тѣмъ противоположны другъ другу, что первый утверждаетъ начало дифференціаціи, второй идеально преодолѣваетъ его.
Интимное искусство есть искусство наиболѣе важное съ точки зрѣнія художественной τέχνη. Это преимущественно «искусство для искусства». Оно выдѣляетъ артиста, и вырабатываетъ виртуоза. Оно предъявляетъ запросъ на утонченность и вкусъ. Прозрѣнія и открытія чисто эстетическаго порядка совершаются въ его замкнутомъ кругѣ. Въ немъ живописецъ впервые только живописецъ, какъ Веласкесъ, музыкантъ — только музыкантъ, какъ Моцартъ. Оно центростремительно; пассивно по отношенію къ общимъ цѣлямъ
культурно-историческаго движенія; наконецъ, аналитично по методу, въ противоположность большому искусству, существенно синтетическому. Поскольку мыслимы статическіе типы обособленія, интимное искусство, какъ, напримѣръ, аристократическое искусство XVIII вѣка, можетъ достигать того единства стиля, которое составляетъ преимущественную принадлежность большого искусства, и заражать имъ неопредѣленно широкіе круги: такъ, мы имѣемъ право говорить о стилѣ XVIII вѣка вообще.
Искусство келейное, напротивъ, центробѣжно въ своемъ глубочайшемъ устремленіи, активно, и снова синтетично. Если интимное искусство очерчиваетъ себя волшебнымъ кругомъ, келейное хочетъ овладѣть магическимъ жезломъ. Его замкнутость — вынужденная замкнутость самозащиты и сосредоточенія: творческая монада новаго броженія обороняетъ себя непроницаемою броней, какъ бы уходитъ въ свою раковину, и такъ копитъ въ себѣ свою эксплозивную энергію. Это — катакомбное творчество «пустынниковъ духа».
Интимное искусство — искусство чистаго, безпримѣснаго созерцанія; келейное — искусство метафизическаго изволенія. Созерцаніе того устремлено на внѣшнее и частное, этого — на внутреннее и общее. Въ томъ торжествуетъ личность и произволъ ея; въ этомъ, какъ въ искусствѣ всенародномъ, опять побѣждаетъ сверхличное. Его представители, всѣ, въ большей или меньшей степени, являютъ черты лермонтовскаго Пророка. Символомъ его мистической души могъ бы служитъ текстъ Данта: «Немногое извнѣ доступно было взору; но черезъ то звѣзды я видѣлъ и ясными, и крупными необычно». Его психологія — психологія молитвеннаго дѣланія, родная созерцаніямъ брамановъ,
знавшихъ, что изъ энергіи молитвенной таинственно и дѣйственно возникаетъ, доколѣ она длится, божество молитвы, Брахманаспати. Его религія — воля, или — что то же — вѣра, того темнаго порыва, который подобенъ содраганіямъ зачатой жизни въ материнскомъ чревѣ, несущемъ въ себѣ новую душу. Художникъ этого типа искусства, сознательно или безсознательно, живетъ убѣжденіемъ, что «нуженъ одинокій пылъ нераздѣленнаго порыва», — что «изъ искры тлѣющей летитъ пожаръ на неудержныхъ крыльяхъ», — что «самыя тихія слова — самыя могущественныя», какъ духъ шепнулъ Заратустрѣ.
IV.
Творцы художественныхъ произведеній того или другого типа искусства не необходимо, впрочемъ, соотвѣтствуютъ, складомъ своей личности и характеромъ своихъ стремленій, объективнымъ признакамъ этого типа. Такъ, Достоевскій, созданія котораго принадлежатъ главнымъ образомъ искусству демотическому, представляетъ отличительныя особенности художника келейнаго, какъ и Дантъ, чья «Божественная Комедія» должна быть однако отнесена къ сферѣ большого искусства. Творенія Бетховена, хотя и несомнѣнно «пустынника духа», тѣмъ не менѣе обнаруживаютъ, подобно твореніямъ Шекспира, значительную степень приближенія къ идеалу искусства всенароднаго, — какъ музыка вообще, эта «текучая архитектура» въ нашемъ лишенномъ зодчества вѣкѣ, — единственное искусство новаго міра, о которомъ можно условно
сказать, что паѳосъ художества всенароднаго еще живъ среди насъ.
Отсюда — внутреннее противорѣчіе и какъ бы трагическая антиномія Девятой Симфоніи Бетховена, — этой двойной измѣны творца ея и двойной жертвы: ибо она — измѣна самой музыкѣ, какъ сферѣ частной и обособленной, и принесеніе ея неизрекаемыхъ таинствъ въ жертву Слову, какъ общевразумительному символу вселенскаго единомыслія, — измѣна личности и отреченіе отъ ея высочайшихъ притязаній во имя любви и правды вселенской.
V.
Четыре типа искусства, въ томъ порядкѣ, въ какомъ они выше охарактеризованы, представляютъ собою восходящую градацію индивидуальной свободы художника. Въ искусствѣ всенародномъ, я творца какъ бы погружено въ Нирвану я народнаго. Искусство демотическое, хотя и обусловленное началомъ индивидуаціи, все же существенно ограничиваетъ свободу творческаго порыва. Въ интимномъ искусствѣ личность развивается вольно и безудержно; здѣсь впервые художникъ говоритъ себѣ: «Wage du zu träumen und zu irren». Наконецъ, въ искусствѣ келейномъ «безвольный произволъ» генія переступаетъ предѣлы эмпирическаго дерзновенія (по существу аналитическаго) и достигаетъ свободы внутренней, или пророчественной. Но эта, послѣдняя, эманципація личнаго порыва есть, вмѣстѣ съ тѣмъ его безусловное отрѣшеніе отъ всего лично-волевого.
Здѣсь свобода переходитъ въ необходимость, произволъ дѣлается безвольнымъ, пророчественное
дерзновеніе обращается въ подчиненіе пророческое. Келейный художникъ уже не говоритъ: «Дерзай мечтать и заблуждаться»: онъ можетъ сказать еще: «Мечтать дерзай»; но на высшихъ ступеняхъ своего служенія онъ знаетъ одно: «Дерзай», — и не вѣдаетъ самъ, гдѣ межа, раздѣляющая его произволъ и его покорность. Ибо его мечта уже не просто аполлинійская сонная греза, но вѣщее аполлинійское сновидѣніе; и къ нему особенно примѣнимо изреченіе Ганса Закса (въ «Мейстерзингерахъ» Вагнера), которое Ницше прилагаетъ къ поэтическому творчеству вообще:
Сновидцемъ быть рожденъ поэтъ.
Въ мигъ грезы сонной, въ зрящій мигъ,
Духъ истину свою постигъ;
И все искусство стройныхъ словъ —
Истолкованье вѣщихъ сновъ.
Такъ и на примѣрѣ Бетховена мы видѣли, что крайнее дерзновеніе индивидуальнаго духа переходитъ въ свою противоположность: въ отрицаніе индивидуума ради идеи вселенской. Вотъ связь, которая логически приводитъ искусство келейное въ преддверіе всенароднаго, подъ условіемъ гармоніи между во́леніемъ творческой монады и самоопредѣленіемъ соборнымъ.
Но возможна ли эта гармонія?
VI.
Въ статьѣ «Поэтъ и Чернь» мы искали показать, что внутреннее слово, которое открывается въ искусствѣ келейномъ въ тѣ переходныя эпохи, когда «мысль
изреченная» становится «ложью», — силою внутренней необходимости совпадаетъ съ символомъ всенароднымъ и вселенскимъ. Но, между тѣмъ какъ поэтъ обращается къ символамъ, искони заложеннымъ въ его духѣ народомъ, — не отчужденъ ли уже духовно самъ народъ отъ того, что составляло его древнее достояніе? И не будетъ ли геній напоминать тому о его божественности, кто уже только «себя забывшій и забытый богъ»?
Здѣсь дерзовеніемъ было бы предрѣшать исходъ возможностей. Здѣсь возникаетъ ликъ исторической Ананке, древней Необходимости. Молчаніемъ и покорностью подобаетъ чтить Адрастею. И, тѣмъ не менѣе, позволительно сѣятелю, по слову Шиллера, съ надеждой ввѣрять землѣ золотое сѣмя и, утѣшаясь, ждать весеннихъ всходовъ. Позволительно ему раздѣлять и суевѣріе этихъ строкъ, — уповая на subtile virus caelitum:
Въ кристаллы вѣчныхъ Формъ низводятъ тонкій Ядъ,
Ихъ тайнодѣянья сообщницы — Планеты
Надъ міромъ спящимъ ворожатъ.
И въ дрожи тѣлъ слѣпыхъ, и въ ощупи объятій
Духотворящихъ силъ бѣжитъ астральный токъ,
И новая Душа изъ хаоса зачатій
Пускаетъ въ старый міръ ростокъ.
И новая Душа, прибоемъ поколѣній
Подмывъ обрывы Тайнъ, по знаку звѣздныхъ Числъ,
Въ наслѣдьи творческомъ непонятыхъ велѣній
Родной разгадываетъ смыслъ.
И въ кельяхъ башенныхъ отстоянные яды
Преображаютъ плоть, и претворяютъ кровь...
Кто, сѣя, проводилъ дождливыя Плеяды, —
Ихъ, серпъ точа, не встрѣтитъ вновь.
VII.
Утверждая безусловную свободу художественнаго творчества, мы — индивидуалисты въ сферѣ эстетической. Возвышая его до теургическаго воленія, мы находимъ въ самой свободѣ его — ея метафизическія границы. Такою гранью является сверхличное.
Кто волитъ своего я, тотъ знаетъ, что не обрѣлъ его. Fio, ergo non sum. Я становлюсь: итакъ, не есмь. Жизнь во времени — умираніе. Жизнь — цѣпь моихъ двойниковъ, отрицающихъ, умерщвляющихъ одинъ другого. Гдѣ — я? Вотъ вопросъ, который ставитъ древнее и вѣщее «Познай самого себя», начертанное на дельфійскомъ храмѣ подлѣ другаго таинственнаго изреченія: «Ты еси» (ει).
Не нужно быть чрезмѣрно пристрастнымъ къ метафизическому образу мышленія, чтобы обличить жизнь, какъ становленіе и, слѣдовательно, небытіе; чтобы осмыслить свое эмпирическое существованіе какъ мэонъ (не-сущее); чтобы осознать, что синтетическое условіе становленія есть бытіе и что существуетъ для ищущаго, подобно математическому предѣлу безконечно приближающихся величинъ, нѣкоторое Я во мнѣ, какъ постулатъ моего не я, или я — мэона.
Кто проникся этимъ паѳосомъ самоисканія, тотъ уже не знаетъ личнаго произвола: онъ погружается въ цѣлое и всеобщее. По мѣрѣ того какъ наше искусство, переступая предѣлы интимнаго, будетъ переходить въ келейное, оно будетъ становиться сверхличнымъ. Признаки дифференціаціи и индивидуаціи будутъ преодолѣны. И мы стоимъ на порогѣ этого преодолѣнія.
Пылающее воленіе излучается любовью и ненавистью. Не на дальнее ли долженъ быть устремленъ этотъ Эросъ цѣлаго и всеобщаго? Конечно, да. Но кто — дальній? Онъ — въ близкихъ намъ, онъ — въ отдаленнѣйшихъ потомкахъ нашихъ, онъ — въ насъ самихъ. Только по недоразумѣнію можно противополагать евангельскую любовь къ ближнему, эту неумолимую и не знающую матери и братьевъ любовь, ницшеанской любви къ тому, кто дальше всего отъ насъ. Дальній есть сущій въ насъ и въ близкихъ, и сущее во всемъ. Относиться къ сущему въ другихъ, какъ къ сущему въ себѣ, — вотъ заповѣдь. Любить ближняго, какъ себя, и ненавидѣть его, какъ себя, — одно и то же, при условіи различенія между сущимъ, какъ предметомъ любви, и мэономъ, какъ предметомъ преодолѣнія.
Несправедливо обвинять такъ настроенныхъ въ принципіальной защитѣ личнаго или соціальнаго эгоизма, и индифферентизма общественнаго. Они волятъ не своего и частнаго, а общаго и сверхличнаго; и ничто изъ общаго и соборнаго не можетъ быть имъ чуждо. Правда, они неподкупны въ своихъ оцѣнкахъ: они знаютъ цѣну хлѣба, и знаютъ цѣну Слова. Но развѣ должно не знать послѣдней, чтобы пожалѣть народъ, не ѣвшій цѣлыхъ три дня?