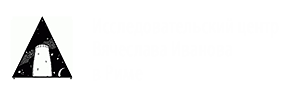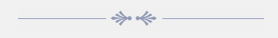
События
Эллинская религія страдающаго бога. Глава V
Эллинская религія страдающаго бога.
ГЛАВА V.
Миѳу не удается пластически и окончательно очертить Діонисовъ обликъ. Богъ, вѣчно превращающійся и проходящій чрезъ всѣ формы, — богъ-быкъ, богъ-козелъ, богъ-левъ, богъ-барсъ, богъ-олень, богъ-змѣя, богъ-рыба, богъ-плющъ, богъ-лоза, богъ-дерево, богъ-столпъ, богъ-юноша, богъ-брадатый мужъ, богъ-младенецъ, богъ-дѣва, богъ-огонь (πῦρ εὔιον), богъ-пучина морская, богъ-дождевая влага, богъ-солнце, богъ-ночь и смерть, богъ въ колыбели, богъ въ гробу, или ракѣ, или въ осмоленномъ ковчегѣ, брошенномъ въ море, или въ узкомъ колодцѣ, въ темномъ озерѣ, въ Лернейскомъ болотѣ, богъ въ бедрѣ Зевсовомъ и въ котлѣ Титановъ, богъ на дельфинахъ, богъ среди изнѣженнаго сонма женщинъ и въ женскихъ одеждахъ, богъ на кораблѣ, или на колесницѣ, влекомой тиграми, или на двухколесной телѣжкѣ — везомый двумя сатирами и двумя мэнадами, богъ въ объятіяхъ Аріадны, богъ въ шлемѣ и всеоружіи (на изображеніяхъ Гигантомахіи), богъ съ лирой Аполлона, богъ-ловчій, богъ сокровенный и исчезнувшій, богъ-бѣглецъ, богъ обмана и веселаго прятанія, богъ-загадка, богъ-голосъ, богъ-маска, — этотъ богъ всегда только маска и всегда одна оргіастическая сущность. Его многообразность и какъ бы текучесть не позволяетъ облечь его numen въ постоянное и устойчивое формальное представленіе; миѳъ прибѣгаетъ къ различенію
многихъ Діонисовъ, которые суть не только разные аспекты бога, какъ Μειλίχιος, (личина изъ фиговаго дерева) и Βαϰχεύς (маска изъ ствола виноградной лозы) на Наксосѣ, — но и послѣдовательныя его богоявленія или возрожденія. Позднѣйшіе миѳологи уже насчитываютъ до пяти различныхъ Діонисовъ, въ точномъ опредѣленіи которыхъ, впрочемъ, расходятся. Религіозная мысль не можетъ остановиться на данномъ звенѣ въ цѣпи обновленій бога, предчувствуетъ и отмѣчаетъ его начало въ генезисѣ вселенной, до появленія перваго Діониса, Загревса, сына Персефоны, и полагаетъ принципіально возможнымъ его новый приходъ, что логически обусловливаетъ феноменъ обожествленія людей подъ его именемъ (νέοι Διόνυσοι, напр., Димитрій Фалерскій, Антоній), феноменъ, въ которомъ кроются, быть можетъ, корни римскаго культа императоровъ, несомнѣнно родившагося въ греческомъ мірѣ, повидимому, въ Малой Азіи, и только смѣнившаго тамъ культъ греческихъ царей.
Очевидно, миѳъ ищетъ выраженія чему-то данному изначала; и вѣроятнымъ становится, что не экстазъ возникъ изъ того или иного представленія о богѣ, но богъ явился олицетвореніемъ экстаза и какъ бы разрѣшающимъ и искомымъ видѣніемъ охваченнаго безпредметнымъ изступленіемъ сонма „вакховъ“. Можно предположить, что „вакхи“, какъ община оргіастовъ и какъ самое обозначеніе изступленныхъ въ словѣ, древнѣе Вакха, какъ лица миѳологическаго. Несомнѣнно, что первобытный человѣкъ приписываетъ свои душевныя переживанія божественной силѣ, въ него вселяющейся и его одержащей; въ этомъ смыслѣ богъ данъ одновременно съ изступленіемъ. Но отъ этого неопредѣленнаго обожествленія оргійной силы еще далеко до миѳологической концепціи Діониса. Первоначально, божество діонисической общины — „secretum illud quod sola reverentia vident“, какъ говоритъ Тацитъ о божествѣ германцевъ („именами боговъ означаютъ они то тайное, что видятъ только глазами вѣры и почитанія“); слѣдовательно, быть можетъ, нѣчто, менѣе широкое, правда,
по объему понятія, но однородное, напримѣръ, съ полинезійскимъ божествомъ Мана, о которомъ Максъ Мюллеръ говоритъ, со словъ путешественниковъ: „это сила или вліяніе сверхматеріальнаго порядка и, въ нѣкоторомъ смыслѣ, сила сверхъестественная; но она открывается въ силѣ матеріальной и во всякаго рода могуществѣ человѣческомъ. Мана ни сосредоточивается въ одномъ предметѣ, но можетъ быть проводима въ каждый предметъ. Обладаютъ Маной духи, будь то души, отдѣленныя отъ тѣла, или сверхъестественныя существа. Вся религія этихъ дикарей въ томъ, чтобы овладѣть Маной“.
Любопытно, что миѳъ о Діонисѣ никакъ не можетъ покрыть собою весь кругъ діонисическихъ явленій, — признакъ, что миѳъ — только попытка дать имъ, уже внутренне опредѣлившимся, объясненіе этіологическое. Напримѣръ, діонисическое безуміе не объяснено миѳомъ. Часто прибѣгаетъ онъ, для его оправданія, къ мотиву гнѣва Геры. Наконецъ, при участіи идей малоазійской религіи Кибелы, возникаетъ упоминаемое Платономъ священное преданіе (λόγος), по которому самъ Вакхъ является жертвой насланнаго Герою безумія, отчего онъ и насылаетъ въ свою очередь на людей вакхическіе изступленія и восторги. По Аполлодору и Юліану, Діонисъ излѣчивается отъ безумія фригійскою матерью — Кибелой. Діонисъ умираетъ вѣчно, и умираетъ насильственно. Если титаны умертвили перваго Діониса, то кто и какъ убилъ сына Семелы? Создается поздній миѳъ объ убіеніи Діониса Персеемъ; отчего, по общему закону отождествленія убійцы и жертвы, Персей являетъ черты Діониса; онъ — жертва меланхолическаго безумія.
Діонисическій миѳъ до такой степени недостаточенъ для объясненія культовыхъ явленій діонисическаго цикла, что у Плутарха, чтителя Діониса, мы встрѣчаемъ (de dec. orac. 14) слѣдующее неожиданное заявленіе: „Торжества и жертвенныя служенія, въ которыхъ мы находимъ, омофагіи — пожираніе жертвы сырьемъ — и растерзанія, посты и плачи (постились орфики послѣ омофагіи, плачи намъ извѣстны изъ характеристики
ночныхъ тріетерій), часто же хуленія и изступленія, и, какъ говоритъ Пиндаръ, кликанія съ сильнымъ отбрасываніемъ головы (черта, повторяющаяся въ радѣніяхъ дервишей), — эти торжества и жертвоприношенія совершаются, по моему мнѣнію, не въ честь кого-либо изъ боговъ, но съ цѣлью отвращенія злыхъ демоновъ. И все то, что въ гимнахъ и миѳахъ разсказывается о божественныхъ похищеніяхъ, блужданіяхъ, прятаніяхъ, побѣгахъ и подневольныхъ службахъ, — все это не страсти боговъ, а демоновъ“. Греческое миѳотворчество не смогло пластически преодолѣть и властно очертить хаотической стихіи оргіазма, отчасти чуждаго эллинскому генію по своимъ историческимъ корнямъ, отчасти коренившагося въ темномъ демонизмѣ народныхъ массъ и естественно тяготѣвшаго къ формамъ, аналогичнымъ шаманству, нашей хлыстовщинѣ и средневѣковому сатанизму.
Ища опредѣлить содержаніе религіозной идеи, которую мы можемъ полагать первоначальной въ эллинскомъ оргіазмѣ, прежде всего должны мы исключить представленіе о божественности вина или опьяненія чрезъ вино изъ перваго и исходнаго круга діонисическихъ созерцаній. Конечно, не вино было обожествлено въ Діонисѣ, какъ это можетъ казаться вѣроятнымъ хотя бы изъ миѳа объ Икаріи. Уже выше было указано на тотъ рѣшающій фактъ, что Гомеръ знаетъ вино, какъ усладу смертныхъ и какъ существенную часть жертвы богамъ и душамъ умершихъ, но бога вина не знаетъ. Далѣе, элементы культа, отмѣченные печатью явной первобытности, естественно признать въ составѣ Діонисовой религіи и наиболѣе древними; но среди этихъ элементовъ мы не находимъ опьяненія виномъ, ни вообще опьяненія физическаго: мы встрѣчаемъ исключительно психическіе аффекты; питаніемъ же изступленныхъ являются сырое мясо и горячая кровь. Правда вино было рано оцѣнено оргіастами, какъ могущественный стимулъ изступленія. Ѳракійцы опьянялись несмѣшаннымъ виномъ, брагою и наркотиками — куреніями изъ
коноплянаго сѣмени. Ихъ пророки прорицали „plurimo mero sumpto“, по словамъ Макробія. Загробное блаженство рисовалось ихъ воображенію, какъ состояніе вѣчнаго опьяненія. Изначала хранились въ греческой памяти и общеарійскія представленія о живой влагѣ, дающей безсмертіе богамъ, — амбросіи. Діонисъ, богъ опьяненыхъ душъ, вобралъ въ себя и реализовалъ въ винѣ, любезномъ оргійной общинѣ, этотъ идеалъ растительной крови, текучей и огневой божественной души. Мы увидимъ, что онъ рано сталъ божествомъ растительности, цвѣтенія и обилія земного: лозу винограда возлюбилъ онъ выше всѣхъ произрастаній земли. Его страдающая и жертвоприносимая сущность была узнана и въ виноградѣ: въ страстяхъ растаптываемыхъ гроздій, въ мученичествѣ обрѣзаемыхъ ножомъ виноградаря лозъ увидѣли повтореніе страстей бога. Оргіазмъ изначальныхъ радѣній нашелъ свое отраженіе въ упоенномъ буйствѣ праздниковъ винограднаго сбора. Личина оргіастовъ пришлась къ лицу виноградарямъ. Былъ обрѣтенъ новый, болѣе общій и простой, менѣе ужасный, менѣе опасный аспектъ глубокой и мрачной вѣры.
Въ этой связи понятною становится аномалія Діонисова имени. Эта аномалія въ томъ, что оно, повидимому, compositum, и при томъ, какъ кажется, образовано чрезъ сложеніе съ именемъ Зевса, Дія. Его толковали: „сынъ Зевса“, „влага Зевса“, „гнѣвъ Зевса“; можно было бы прибавить къ этимъ этимологіямъ столь же сомнительную: „сила, или воля Зевса“, видя въ νῦσος корень numen, отъ νεύω, nuo. Есть толкованіе: „двухкопытный“; отдѣльно стоятъ неубѣдительныя словопроизводства изъ семитическихъ языковъ и санскрита. Надпись на одной вазѣ Διὸς ϕῶς („свѣтъ Діевъ“) или, скорѣе, Διὸς ϕῶς („мужъ Зевсовъ“) надъ изображеніемъ Вакха, подкрѣпляетъ мнѣніе о присутствіи въ имени бога элемента Зевсова имени. Итакъ, „многоименный“ богъ не имѣетъ своего имени. „Вакхъ“, имя, характеризующее шумъ и бурю оргій, какъ и ѳракійское Σάβος, повидимому, раньше означало вакхантовъ, нежели бога Вакха.
Не имѣя соотвѣтственнаго имени, Діонисъ заимствуетъ имя у отца, Дія. Дифференцированное изъ Зевсова имени имя Діониса обличаетъ дифференціацію самаго понятія изъ понятія Зевса. Въ самомъ дѣлѣ, оргіастическіе культы исключительны. Близость оргіастовъ къ своему богу препятствуетъ имъ знать или признавать другихъ боговъ. Оргіастическія религіи тяготѣютъ къ моноѳеизму. Богъ, которому служитъ такая община, есть единственно доступный ей аспектъ божества, слѣдовательно — богъ въ его высшемъ и наиболѣе общемъ видѣ — Зевсъ. Имя Діониса, столь абстрактное, возникло, какъ отвлеченіе божественной силы оргій, для различенія отъ другихъ божествъ и въ силу необходимости стать къ нимъ въ опредѣленное отношеніе. Первою же порой обожествленія оргійной силы былъ періодъ означенія ея простымъ именемъ высшаго бога. Искусственность имени Діониса и многоименность бога, какъ бы конкурренція съ этимъ именемъ другихъ именъ (характерно вышеупомянутое Διὸς ϕῶς) — выдаютъ долгіе поиски за словеснымъ ознаменованіемъ божества и, слѣдовательно, за его опредѣленіемъ догматическимъ и его пластическимъ образомъ. Критскій богъ двойного топора и человѣческихъ жертвъ, предшествующій на Критѣ Діонису-Омадію, есть критскій Зевсъ. Что этотъ Зевсъ — Діонисъ, явствуетъ и изъ оргіастическаго характера его культа и миѳическаго института куретовъ, и изъ того, что онъ является подъ аспектомъ бога умирающаго. Его оплакивали, какъ Діониса, считали богомъ Адесомъ (Ζεὺς ἤ ᾽Αίδης ὀνομαζόμενος στέργεις, по Эврипиду), какъ и Діониса, про котораго Гераклитъ говоритъ, что его оргіи совершаются въ честь Адеса. Его культъ былъ культъ хтоническій. Его гробъ на Критѣ (гробъ Зевса — нелѣпость съ точки зрѣнія общегреческой) былъ извѣстенъ издревле, и результаты новѣйшихъ раскопокъ согласны съ древней локализаціей культа этого умершаго Зевса. Уже Одиссея, повѣствуя о собесѣдованіяхъ Миноса критскаго съ Зевсомъ, намекаетъ на Идейскую пещеру, какъ жилище подземнаго бога.
Природа этого Критскаго служенія и его ближайшее родство съ діонисіазмомъ выступаютъ въ фигурѣ критянина Эпименида, пророка, не разъ пережившаго въ Идейской пещерѣ долгіе экстазы отдѣленія души отъ тѣла, „мудраго въ вещахъ божественныхъ мудростію энтузіастической“, по выраженію Плутарха, — великаго очистителя Аѳинъ отъ мести подземныхъ божествъ и религіознаго реформатора очищеннаго имъ города. Мы уже встрѣчали „бога двойного топора“ въ лицѣ Діониса-человѣкорастерзателя на Тенедосѣ. Вотъ намеки на первоначальное почитаніе Діониса среди грековъ подъ неопредѣленнымъ именемъ Зевса или, точнѣе, безъ всякаго имени. Не даромъ риторъ поздней поры, Аристидъ говоритъ: „Слышалъ я и другое преданіе, что самъ Зевсъ — Діонисъ“. И если мы заподозримъ это заявленіе въ религіозномъ синкретизмѣ или философской ѳеокрасіи (богосмѣшеніи), то формальный культъ Зевса-Вакха (Ζεὺς, Βάϰχος) въ Пергамонѣ, засвидѣтельствованный эпиграфически, показываетъ, повидимому, нѣчто большее: здѣсь ѳеокрасія кажется намъ имѣющей свои корни въ древнѣйшей религіозной идеи и свои традиціи во фригійскомъ и пафлагонскомъ культѣ Зевса, умирающаго зимой и воскресающаго весной, т. е. Діониса съ именемъ Зевса.
Именно потому, что богъ жертвеннаго страданія не имѣетъ имени и лица, такъ легко, такъ логически возможно его облеченіе во многія лица, μορϕαὶ Διονύσου, лики или формы Діонисовы. Онъ богъ-„герой“ (ἥρως) вообще, какъ богъ умирающій, и при томъ страстною смертью; и оттого издревле его божество ипостазируется во многихъ герояхъ, единое подъ разноликими масками судьбы трагической. Мы видѣли рядъ примѣровъ такого ипостазированія; умножимъ этотъ рядъ, не притязая исчерпать его, нѣсколькими другими примѣрами.
Одно изъ древнѣйшихъ свидѣтельствъ о трагическихъ хорахъ, есть свидѣтельство пятой книги Геродота о сикіонцахъ. „Сикіонцы, — говоритъ онъ, — чтили Адраста и славили его страсти (πάϑεα) трагическими
хорами, Діониса не чтя, а чтя Адраста. Клисѳенъ же (тиранъ сикіонскій) возвратилъ (ἀπέδωϰε) хоры Діонису, а остальной культъ, принадлежавшій дотолѣ Адрасту, отдалъ Меланиппу“. Дѣло въ томъ, что Адрастъ былъ герой аргивскій, а Клисѳенъ, изъ политическихъ соображеній, хотѣлъ отвратить свой народъ отъ традицій, связывавшихъ его съ Аргосомъ. Не зная, что ему делать съ внѣдрившимся въ Сикіонѣ почитаніемъ героя Адраста, онъ спрашиваетъ о томъ въ Дельфахъ; но оракулъ защищаетъ Адраста. Тогда тиранъ надумалъ добыть изъ Ѳивъ ѳиванскаго героя Меланиппа, вывезъ, съ разрѣшенія ѳивянъ, гробъ его и построилъ ему въ Сикіонѣ храмъ. Такъ культъ героя Меланиппа занялъ мѣсто культа Адрастова. Трагическимъ же хорамъ тиранъ указалъ прославлять не Адрастовы страсти, а Діонисовы. Замѣна, очевидно, была возможна только при условіи внутренняго родства или аналогіи между замѣняемыми культами. Трагическіе хоры имѣли своею общею и принципіальною задачей служеніе Діонису; между тѣмъ они изображали судьбу Адраста. Не былъ ли Адрастъ только однимъ изъ мѣстныхъ обличій Діониса? Разсматривая дошедшія до насъ миѳологическія данныя объ Адрастѣ, мы убѣждаемся въ присутствіи въ его обликѣ чертъ самого Діониса, какъ бога хтоническаго. Адрастъ — діонисическій герой, или ипостась Діониса. Его отличительный аттрибутъ въ миѳѣ — быстрый конь Аріонъ, „божественный Аріонъ, ведшій свой родъ отъ боговъ“, именно рожденный отъ Посейдона и Эринніи, слѣдовательно — черный; черный цвѣтъ принадлежитъ діонисической символикѣ, и „черновласый“ — эпитетъ Аида. Злой врагъ Адраста — Меланиппъ; что значитъ также „черноконный“. Меланиппъ убиваетъ его близкихъ и чуть не умерщвляетъ его самого, но волшебный адскій конь его уноситъ героя изъ сѣчи; что, однако, только обычное символическое означеніе героической смерти. Итакъ, герой чернаго коня умерщвляется своимъ же враждебнымъ двойникомъ, — черта, возможная только въ знакомомъ намъ кругѣ
діонисическихъ представленій о жрецѣ и жертвѣ. Личность Адраста вообще отмѣчена чисто діонисическою трагикой: онъ предпринимаетъ противъ воли походъ съ Семью противъ Ѳивъ, хотя напередъ знаетъ о роковомъ исходѣ войны. Впрочемъ, при состояніи нашихъ источниковъ, мы не располагаемъ всѣми элементами первоначальнаго трагическаго миѳа.
Образъ Аристэя, какъ ипостаси Діонисовой, не менѣе прозраченъ. Онъ, прежде всего, представляетъ аспектъ Діониса, какъ бога пчелъ и меда; ибо Вакхъ столь же богъ меда, сколь вина. Однако, Аристэй — и виноградарь. Въ Сициліи онъ почитается въ одномъ храмѣ съ Вакхомъ. Онъ преслѣдуетъ Эвридику, которая умираетъ въ бѣгствѣ отъ укуса змѣи: здѣсь Аристэй-Діонисъ является и Діонисомъ-Аидомъ. Онъ сопричисленъ къ Діонисову сонму (по другимъ, онъ — сынъ Діониса) и восхищенъ въ гору Гэмонъ, во Ѳракіи, гдѣ живетъ подъ землей, т. е. дѣлается, какъ Діонисъ, претерпѣвъ смерть, божествомъ подземнымъ, — „смертный не счастливый по страстямъ своимъ“ (ϑνητὸς οῦ μάϰαρ παϑέεσσι), какъ означаетъ его въ одномъ стихѣ Григорій Назіанзинъ.
Характеристиченъ благородный Ресосъ, сынъ Музы, коварно убитый подъ Троей Одиссеемъ и Діомедомъ, являющимися „какъ волки“, т. е. въ личинѣ волковъ, и поселенный также подъ землей, во ѳракійскомъ (діонисическомъ) Пангеѣ, какъ жрецъ Діонисовъ. Характеристиченъ виноградарь и другъ Діониса Οἰνεύς, сынъ Фитія, сынъ Оресѳея, — чья собака рождаетъ побѣгъ виноградной лозы. Характеристиченъ и сынъ его (или Ареса) и діонисической Алоэи, Мелеагръ, жизнь котораго связана съ волшебной головней; мать сжигаетъ головню, негодуя на сына за убійство ея братьевъ, и жизнь его сгораетъ одновременно: быть можетъ, — ипостась Діониса, какъ факела ночныхъ оргій, тризнъ по богѣ умершемъ. Отъ Оресѳея до Мелеагра діонисическая филіація обличается самыми именами; подобно тому, какъ мэнада Антіопа связана съ Діонисомъ, какъ
дочь Никтея (Никтелій — имя ночного Вакха), котораго другая дочь Νυϰτηΐς замужемъ за Полидоромъ („многодарнымъ“ — имя божества хтоническаго). Характеристиченъ своими „страстями“ (πάϑη) Паламедъ, засыпанный въ колодцѣ камнями, какъ его дубликатъ Анѳей (одно изъ именъ Діониса), погибающій въ колодцѣ.
Но не только во многихъ ликахъ героевъ является единый ликъ Діониса: онъ же просвѣчиваетъ и въ нѣкоторыхъ божествахъ, напр., въ Аресѣ, богѣ діонисическихъ ѳракійцевъ. Рядъ общихъ чертъ связываетъ Діониса и Ареса. Было даже преданіе, что Аресъ — отецъ Діониса: указаніе на первоначальное культовое единство. Аресъ — „безумный“ (μαινόμενος), какъ Діонисъ. Ему служатъ женщины (γυναιϰοϑοίας, какъ Діонисъ — γυναιϰομανής). Онъ богъ воинскихъ кликовъ (᾿Ενυάλιος), какъ Діонисъ. Трагедія „Семь противъ Ѳивъ“, трагедія воинственнаго паѳоса и упоенія Аресомъ, по сужденію древнему — „полна Діониса“. Діонисъ является въ шлемѣ и всеоружіи. Аресъ и Діонисъ — равно хтоническіе боги.
Итакъ, оргіастическая идея Діонисовой религіи воплотилась въ лицѣ Діониса, только послѣ долгихъ поисковъ за божествомъ и именемъ, ей адэкватнымъ, и даже по возникновеніи Діониса, какъ лица, — какъ бы выходила за края найденнаго ею вмѣстилища, переливаясь въ культы иныхъ, уже обособившихся божествъ и создавая рядъ дифференцированныхъ подобій и повтореній Діониса. Но если первоначальное въ вакхической религіи есть оргіастическое служеніе, открывшееся намъ какъ служеніе жертвенное, и если жертва древнѣе бога, то что же обусловило самую жертву?
Существуетъ мнѣніе, по которому мотивомъ оргіазма діонисическаго являются „растительныя чары“ (Vegetationszauber), т. е. заклинаніе духовъ растительности, магическое пробужденіе природныхъ силъ, путемь обрядоваго воспроизведенія ихъ демонически-оргійной жизни, къ ихъ высшей дѣятельности, потребной человѣку, зависящему отъ земного плодородія. Основаніями
этому мнѣнію служатъ, съ одной стороны, аналогія сельскаго оргіазма у разныхъ народовъ, съ другой — связь Діониса съ міромъ растительнымъ. То и другое основаніе недостаточны. Религія Діониса не есть религія сельская. Напротивъ, въ формахъ своего оргіазма (а мы должны искать ея корней именно въ оргіазмѣ), это — зимняя религія горныхъ высей, снѣжныхъ стремнинъ, безплодныхъ кручъ и дикихъ ущелій, или же — въ частномъ своемъ аспектѣ — религія влажныхъ, болотистыхъ, безплодныхъ низинъ. Пріуроченная только впослѣдствіи къ культу винограда и плодовыхъ деревьевъ, она никогда не имѣла прямого отношенія къ посѣву злаковъ. Почитаніе дерева и растительной жизни вообще принадлежитъ, правда, къ древнѣйшимъ ея элементамъ; но это по преимуществу культъ горныхъ зарослей, ели, сосны, дуба и, прежде всего, дикаго плюща. Сельскій оргіазмъ другихъ народовъ цѣлесообразенъ; его магія служитъ потребностямъ практическимъ. Трудно отыскать что-либо подобное въ діонисическомъ оргіазмѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, цѣлая обширная область діонисическихъ явленій, не имѣя ничего общаго съ идеею растительности, ясно выдаетъ свое отношеніе къ идеѣ загробнаго существованія и къ культу силъ хтоническихъ, или подземныхъ. Эту-то сферу религіозныхъ представленій и дѣйствій, наравнѣ съ внутренне-родственной ей сферою религіозныхъ представленій и соціологическихъ явленій, связанныхъ съ идеею пола, — и должно, по нашему мнѣнію, считать первоначальною въ діонисическомъ оргіазмѣ. Отношеніе къ растительности было только выведено изъ хтонической стороны Діонисова служенія.
Свидѣтельства изобилуютъ. Прежде всего, это религія бога умирающаго и погребеннаго, т. е. нисходящаго въ свое подземное царство. Умираетъ самъ Діонисъ, и умираютъ, или нисходятъ въ преисподнюю его безчисленные двойники, его отраженія, ипостаси или личины. Такъ, по одному мѣстному аттическому преданію, Діонисъ ищетъ дороги въ Аидъ и проситъ нѣкоего
Просимна указать ему путь. Тотъ соглашается, съ тѣмъ, чтобы Діонисъ, вернувшись на землю, наградилъ его своею любовью. Но возвратившійся Діонисъ уже не застаетъ Просимна въ живыхъ. Въ память о другѣ онъ воздвигаетъ на его могилѣ фиговую вѣтвь, символъ пола. Діонисъ вызывается наверхъ (ἀναϰαλεῖται) въ Лернѣ, причемъ черную овцу бросаютъ въ озеро, въ жертву Пилаоху — Аиду-Вратнику. Діонисическія празднества соединены съ поминками: таковы Ѳеодэсіи, Ленэи, Анѳестеріи, дельфійскія Героиды, Некисіи въ Аргосѣ. Діонисъ зовется χϑόνιος, μειλίχιος, νυϰτέλιος, ᾍδης, ϰαϑηγεμών, какъ божество преисподней, и величается рядомъ эвфемистическихъ именъ, свойственныхъ богамъ подземнаго царства, общимъ гостепріимцамъ, равно распредѣляющимъ дары, богатымъ и обогащающимъ владыкамъ (χαριδότης, ὀλβιοδότης, ἰσοδαίτης). Онъ герой (ᾓρως) и царь душъ (ἄναξ), Ζαγρεύς — сильный охотникъ. Его символика — символика хтоническихъ божествъ, пурпуровый и черный цвѣта, гранатовое яблоко, ковчегъ. У ѳракійцевъ, гдѣ діонисическая религія являетъ свою древнѣйшую форму, это богъ мертвыхъ. Оттого геты, οἱ ἀϑανατίςοντες, по выраженію Геродота, вѣрятъ въ безсмертіе, вѣчную жизнь со своимъ богомъ. „Кавзіанцы плачутъ при рожденіи человѣка, и радуются объ умершихъ, какъ обрѣтшихъ покой отъ многихъ золъ“. Ѳракійцамъ единогласно приписывается древними „appetitus maximus mortis“. Еще въ одной поздней надписи, найденной близъ Филипповъ, умершій мальчикъ напутствуемъ молитвами родныхъ на цвѣтущіе луга Діонисовы, гдѣ будутъ утѣшать его нимфы и сатиры божественнаго факелоноснаго сонма. Въ исторической Греціи связь Діониса съ культомъ умершихъ все болѣе затемняется; но никогда не перестаетъ онъ утверждаться какъ божество хтоническое.
Если же связь съ культомъ душъ первоначальна въ Діонисовой религіи, естественно предположить, что моменты оргіазма были пріурочены прежде всего къ тризнѣ и поминкамъ, какъ и діонисическія празднества
исторической Греціи, такъ часто сопровождаемыя поминками по умершимъ, суть или тризны по Діонису, или ликованія о смерти, имъ преодолѣнной. Этотъ выводъ, какъ покажетъ послѣдующее изложеніе, освѣщаетъ характернѣйшія черты оргійныхъ служеній: самый феноменъ оргіазма и его особенную обстановку; человѣческія жертвы; растерзаніе жертвъ; роль маски въ Діонисовомъ культѣ; наконецъ, отношеніе этого культа къ религіозному началу пола.
Оглянемся на добытые въ предшествующей части изслѣдованія результаты. Разсмотрѣвъ мистику діонисическаго служенія, мы установили двойной принципъ ея: отождествленіе бога съ жертвою и съ жертвователемъ. Оргіастическая община, соединяющаяся для жертвы, опредѣлилась какъ временная коллегія жрецовъ; но такъ какъ жрецъ и жертва равно представляютъ самоотчуждающееся и страдающее божество, эта община открылась намъ въ то же время и какъ коллективная жертва. Религія страдающаго бога самоутверждается въ этой исконной мистикѣ отождествленія. Растерзаніе бога-жертвы оргіастами, т. е. переходъ жертвы въ лицъ, ее растерзавшихъ, и чрезъ то пресуществленіе жрецовъ въ жертву — вотъ первичный символъ этой религіи разрыва и разлуки, разрѣшенія всѣхъ узъ и всѣхъ связей, трагическихъ экстазовъ убійственнаго расторженія и тоски по утраченномъ единствѣ. Ея древнѣйшая стихія обнаруживается въ первобытно-каннибалическомъ имени страдающаго бога: „Растерзатель человѣковъ“. И та же стихія неизмѣнною является намъ въ изреченіи поздняго мистика, неоплатоника Прокла: „Разъятіе или расторженіе — начало діонисическое; гармоническое соединеніе — начало аполлиническое“. Климентъ Александрійскій (Str. I, 13, р. 128) не простираетъ своего отрицанія Діонисова культа на данную въ этомъ культѣ мистическую идею расторженія: „И варварская и эллинская философія
видитъ вѣчную истину въ нѣкоемъ расторжени, распятіи, — не томъ, о которомъ говоритъ миѳологія Діонисова, но о которомъ учитъ ѳеологія вѣчно сущаго Логоса“.
Такъ, религіозная идея, составляющая предметъ нашего изученія, осталась вѣрной себѣ до конца. На ея примѣрѣ мы можемъ провѣрить всю справедливость замѣчанія Эрвина Роде о греческой религіи: „Греческая религія, — говоритъ онъ, — какъ религія не основанная, а органически выросшая, не могла найти логическаго выраженія мыслямъ и чувствамъ, внутренне ее опредѣляющимъ и ей дающимъ ея внѣшній обликъ. Она была представлена одними священнодѣйствіями. Нѣтъ въ ней и священныхъ книгъ, изъ которыхъ можно было бы уразумѣть глубочайшій смыслъ и связь идей, обусловливавшихъ отношеніе эллина къ божественнымъ силамъ, созданнымъ его вѣрой. Мысль и фантазія поэтовъ ведутъ свой хороводъ вокругъ пребывающаго неизмѣннымъ зерна народнаго вѣрованія, которое, несмотря на недостатокъ логическаго развитія религіозныхъ понятіи, или, быть можетъ, именно вслѣдствіе этого недостатка, съ достойною удивленія вѣрностью сохраняетъ свою первоначальную особенность“. (Предисловіе къ 1-му изд. „Психеи“).
Мы искали распознать первоначальныя черты діонисической религіи, и она предстала намъ въ образѣ первобытнаго каннибализма. Въ томъ сложномъ составѣ, въ какомъ мы застаемъ въ историческую эпоху эту мистическую, т. е. на идеѣ единенія съ божествомъ основанную религію, — первичными элементами мы признали элементы оргіазма мистическаго, растерзанія человѣческой жертвы. Мы видѣли, что жертва древнѣе бога и что богъ только обожествленіе жертвы; что первоначально діонисическая община не знаетъ ни имени своего бога, ни его исторіи или священной легенды, что богъ общины не разнится именемъ отъ членовъ и не имѣетъ опредѣленнаго лица, что община различаетъ въ немъ только черты бога растерзаннаго, бога страдающаго: миѳъ долженъ еще только открыть,
изобрѣсти страсти бога, даннаго изначала страдающимъ. Ища происхожденія этого мистическаго оргіазма, мы отстранили прежнее выведеніе его изъ культа вина, какъ источника состояній экстатическихъ, какъ отстранили и выведеніе его изъ энтузіастическаго сочувствія состояніямъ и страстямъ природы, мыслимой какъ существо живое, ея періодическому цвѣтенію и отцвѣтанію, умиранію и возрожденію. Мы отклонили наконецъ и гипотезу о связи діонисической религіи съ весенними заклинаніями, облекающимися у многихъ народовъ въ формы оргіастическія: эта связь допустима только для немногихъ и при томъ не первоначальныхъ частей сложнаго феномена, нами изучаемаго; какъ религія Діониса, въ своей исконной сущности, — не религія земледѣльческая и даже не пастушеская, такъ и оргіазмъ ея лишенъ практическихъ цѣлей полевого магизма. Въ иной обширной области явленій діонисическаго культа, въ области, не имѣющей прямого и изначальнаго отношенія къ идеѣ силы растительной, хотя и тѣсно связанной съ нею исторически отношеніями производными, — усмотрѣли мы коренное достояніе Діонисовой религіи: это — область культовыхъ явленій почитанія мертвыхъ и общенія съ силами царства подземнаго. Тогда оргіастическое служеніе и жертва діонисическая раскрылись намъ какъ обрядъ и жертва первобытныхъ тризнъ.
Не подлежитъ сомнѣнію этнографическій фактъ, что тризны составляютъ моменты наивысшаго подъема и напряженія въ психической жизни первобытныхъ племенъ и какъ бы горную зону, гдѣ всего чаще и сильнѣе разражаются ея глухо назрѣвающія грозы; тризна оргійна искони и по существу. Ограничимся однимъ, но весьма характернымъ по степени приближенія къ аналогическимъ явленіямъ Діонисовой религіи примѣромъ. „Батлока, племя, живущее въ сѣверной части Трансвааля, ежегодно справляетъ праздникъ въ честь умершихъ. Кудесники, спрятавшись, извлекаютъ изъ флейтъ странные звуки, которые народъ считаетъ за
голоса духовъ. „Модимо здѣсь“, говоритъ толпа. Подобнымъ же образомъ, въ ночные часы ѳракійскихъ радѣній, по уже выше разсмотрѣнному свидѣтельству Эсхила въ трагедіи „Эдоны“, скрытые „мимы ужаса“ воспроизводили, среди завыванія флейтъ, ревы невидимаго быка, которые, являясь признакомъ приближенія бога оргій, способствовали возбужденію всеобщаго экстаза (Роде, „Психея“, II, стр, 14, изд. 3-го, прим. 2). Изступленія половыя, равно характеристичныя для тризнъ, мы встрѣчаемъ, напримѣръ, — я обязанъ этимъ указаніемъ любезности проф. М. М. Ковалевскаго, — у нѣкоторыхъ кавказскихъ племенъ.
Излишне настаивать также и на томъ общеизвѣстномъ фактѣ, что древнѣйшія тризны не обходятся безъ человѣческихъ жертвъ. На кострѣ Патрокла, по Гомеру, принесены въ жертву тѣни героя двѣнадцать троянскихъ юношей. О добродѣтельной жертвенной смерти женъ на похоронахъ мужей говорятъ миѳы объ Эваднѣ, Лаодаміи, Панѳіи. Поликсена, но миѳу, сообщенному Павсаніемъ, приносится въ жертву на могилѣ Ахилла. Тарквиній Гордый умерщвляетъ, по одному преданію, въ жертву Лахамъ, душамъ предковъ, — дѣтей.
Въ растерзаніи жертвы мы снова усматриваемъ исконную черту тризны. Этнографъ найдетъ не одно подтвержденіе этого общаго факта въ переживаніяхъ и преданіяхъ. Такъ, по одной бретонской легендѣ, дѣвушка, провинившаяся передъ покойникомъ, найдена въ церкви, близь его гроба, растерзанною въ куски. Обычай объясняется, конечно, стремленіемъ первобытнаго человѣка усвоить себѣ душу или силу умершаго чрезъ похищеиіе и поглощеніе частей его тѣла. Если изъ многихъ обреченныхъ жертвъ тризны одна человѣческая жертва представляетъ собою умершаго, разсматривается какъ вмѣстилище и носительница его силы, — то растерзаніе переносится на жертву. Греки раздѣляли общенародное вѣрованіе, что души умершихъ вселяются въ живыхъ, при условіи вкушенія отъ покинутой ими
плоти и ея крови: для подтвержденія этого мнѣнія философъ Порфирій ссылается на древняго Ферекида; Аполлоній Тіанскій исцѣляетъ одержимаго отрока, изгоняя изъ него духъ одного павшаго въ битвѣ воина, имъ владѣвшій.
Въ греческомъ миѳѣ растерзанія, относящіяся къ культу душъ, засвидѣтельствованы. Персефона, богиня тѣней, растерзываетъ Минѳу. Духъ Ахилла, по Филострату, растерзываетъ на части отданную ему рабыню; закланіе Поликсены — только смягченіе болѣе древняго представленія объ умерщвленіи дѣвы надъ могилой героя чрезъ растерзаніе. Левкона (бѣлая), жена охотника Кіаниппа (черноконнаго), т. е. Загревса, разорвана собаками своего мужа. Несомнѣнно, что представленіе адскихъ псовъ, разрывающихъ трупъ, — собакъ Гекаты, — имѣетъ связь съ отдачею трупа въ добычу псамъ или волкамъ (обычай, напримѣръ, тунгузовъ), что у Гомера мы встрѣчаемъ, естественно, только въ примѣненіи къ вражескимъ трупамъ. Но не случайно, что собаки Артемиды разрываютъ Актэона, Діониса мѣсяца Элафеболіона и вмѣстѣ Діониса хтоническаго, „дикаго охотника“ (на что указываетъ его закованный идолъ, описанный Павсаніемъ въ девятой книгѣ и подобный идолу Діониса въ оковахъ на Хіосѣ): эти собаки, конечно, только дѣвы, спутницы богини, хтонической охотницы, преслѣдующія Актэона такъ же, какъ „собаки“. — Мэнады разрываютъ тамъ же, на Киѳеронѣ, тайно приблизившагося къ нимъ діонисическаго героя Пенѳея. Эринніи, образъ которыхъ сложился изъ чертъ, знакомыхъ намъ по типу охваченной убійственнымъ изступленіемъ Мэнады, — безумныя, потрясающія факелы, змѣями увѣнчанныя дѣвы, Эринніи, зовутся собаками у Эсхила и у другихъ писателей, гонятся за преступникомъ, какъ ловчіе псы за дичью, и нюхаютъ воздухъ, привлекаемыя запахомъ пролитой свѣжей крови. Древняя эпидемическая болѣзнь воображаемаго превращенія въ собакъ, несомнѣнно, развилась въ Греціи въ связи съ оргіастическимъ обычаемъ преслѣдованія
жертвы, обреченной подземнымъ силамъ, женщинами, изображавшими охотничьи своры. Вампиризмъ и вурдалачество углубляются своими корнями въ эту темную эпоху оргійныхъ тризнъ и утверждаются, какъ опредѣленно характеризованное Фольклоромъ явленіе, въ пору разложенія древнѣйшаго оргіазма.
Въ 24-ой пѣсни Иліады, Гекуба говоритъ своему супругу, Пріаму, отговаривая его идти съ дарами въ станъ Ахилла для выкупа тѣла Гектора:
Выпряла нашему сыну, какъ я несчастливца родила, —
Долю, чтобъ псовъ онъ насытилъ, вдали отъ родныхъ, предъ очами
Лютаго мужа, котораго сердце, когда бы могла я,
Впившись въ грудь, пожирать, отомстила бъ за то, что онъ сдѣлалъ
Съ сыномъ моимъ“...
Чтобы понять до конца слова Гекубы, нужно уловить въ ея каннибальскомъ вожделѣніи (которое, въ Иліадѣ, конечно, не простая риторическая фигура) противопоставленіе съ собаками, раздирающими тѣло ея сына. Быть можетъ, въ первоначальной, до-гомеровской версіи Гекуба говорила еще опредѣленнѣе: „Теперь Гектора разрываютъ псы, а Ахиллъ на то любуется; о, если бы мнѣ быть собакой (т. е. изображать собаку) на тризнѣ Гектора, гдѣ Ахиллъ былъ бы обреченною на растерзаніе жертвой!“ Чуткій миѳъ подтверждаетъ такое толкованіе. Гекуба является