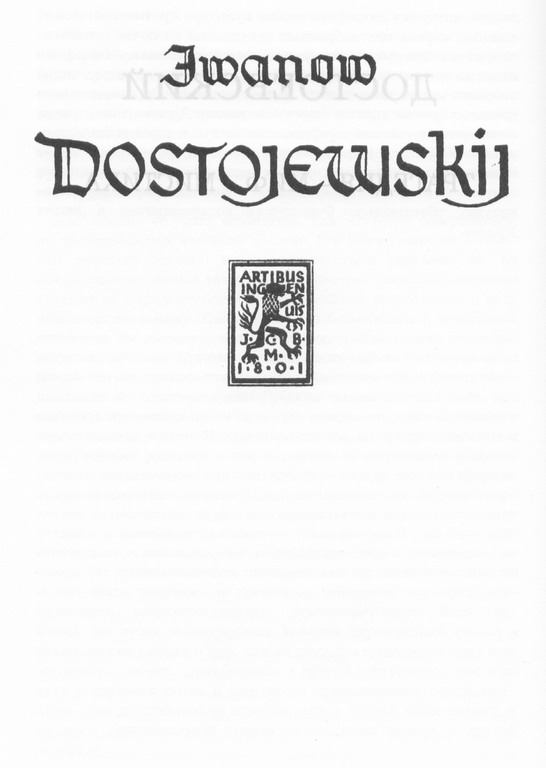
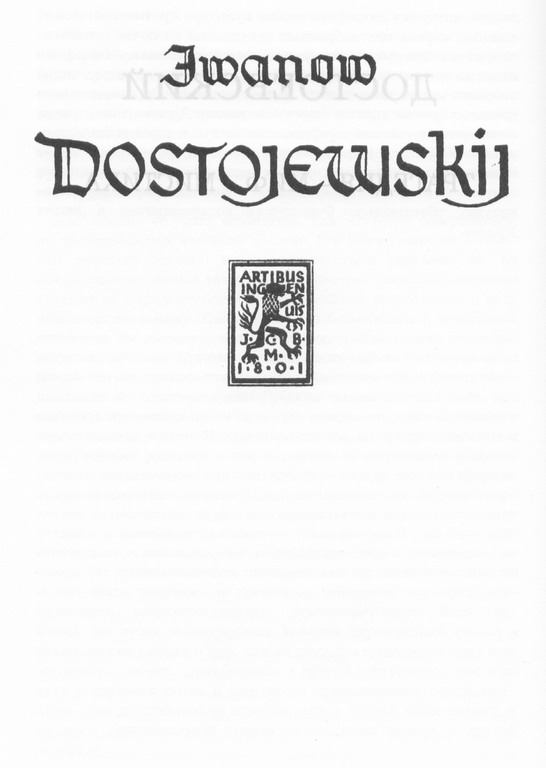
Титульный лист немецкого издания книги о Достоевском
Уместно, думается мне, сразу указать на внутреннее строение предлагаемого исследования. Троякому изучению Достоевского как автора трагического, мифотворца и религиозного учителя соответствует деление книги на размышления о трагедии («Tragodumena», о мифе («Mythologumena») и о религии («Theologumena»). Но это лишь три различных точки зрения, с которых созерцается одна целостная сущность. Таким образом, должно выявиться у Достоевского внутреннее единство его творчества, каждый аспект которого предполагает и обусловливает два другие. Исходя из анализа формы, я заключаю здесь, что творения Достоевского, по их внутренней структуре — трагедии в эпическом одеянии; такова же была и «Илиада». Но если мы видим в них крайнее приближение формы романа к художественному прототипу трагедии, то это лишь потому, что все мировосприятие Достоевского всегда существенно трагично, а стало быть реалистично. Ибо трагедия возможна только как взаимоотношение между реальными и свободными сущностями. И действительно, мировоззрение Достоевского представляется нам как онтологический реализм, исходящий из мистического проникновения в чужое я, как некую в ens realissimum* утвержденную реальность. Художественное исследование причин человеческих действий в трех планах — в плане прагматическом внешних происшествий, в плане психологическом и, наконец, — метафизическом, — он же сфера характера умопостигаемого, — показывает, что человек действует и самоопределяется как совершенно свободная личность только в этом третьем плане. Тем самым, трагедия в строгом смысле слова перемещается в область первичного самоопределения свободной воли — в сферу метафизическую. Но для того чтобы выявить события, происходящие в этой сфере, нет иного средства, кроме мифа, поскольку мы понимаем под мифом синтетическое суждение, в котором символическому подлежащему, обозначающему сверхчувственную сущность, придается словесное сказуемое, которое являет эту сущность в ее
динамическом аспекте как действующую или страдательную. В основе творений Достоевского должны, стало быть, лежать мифические представления, — что и подтверждается присутствием мифологических мотивов в его главных произведениях. Умозрения Достоевского о трагедии, разыгрывающейся в метафизической сфере между Богом и человеком, слагаются в диалектическую систему, изложение которой входит в третью часть этой книги. Основана эта система, соответственно трагическому началу, на Августиновом противоположении любви к Богу и любви к самому себе, вплоть до ненависти к Богу. Философия силы зла, исходящая из анализа символических прообразов — «Люцифер», «Ариман» и «Легион» (зло в области общественной) — находит, в заключительной главе, свой коррелят в изложении религиозного идеала агиократии.
Вот что я хотел сказать о внутренней структуре книги как о целом; добавлю несколько слов о ее возникновении. Мои ранние работы о романе-трагедии и о религии Достоевского, появившиеся уже в 1911 ив 1917 годах в петербургском ежемесячнике «Русская мысль» и вошедшие во второй и третий сборник моих статей, лежат в основе первой и третьей части («Tragodumena» и «Theologumena»), но они столь коренным образом переработаны, что не только по форме, но и по содержанию существенно отличаются от первоначального текста; вторая часть («Mythologumena») — за исключением нескольких страниц о сущности мифа и об основной идее «Бесов» (в «Бороздах и Межах»), печатается вообще впервые. Что же касается теперешнего издания, считаю себя обязанным признать свою вину перед уважаемым переводчиком — грешен я в том, что своими подчас обильными вставками (среди которых поэтическая автоцитата на стр. 503) и своенравными стилистическими затеями повредил его уже законченной превосходной работе. Если случится читателю приметить какую-нибудь неурядицу в немецкой речи, да припишет он ее моему вмешательству, да винит он только меня. Наконец, мне надлежит с глубокой благодарностью вспомнить об участии в приготовлении и появлении в печати этой книги друга моего Евсея Давидовича Шора (Фрейбург); он годами с неустанной действенной любовью и преданностью следил за осуществлением этого издания. Более того, он первый навел меня на мысль соединить в одно целое печатные работы о Достоевском и неизданные записи: без его ясновидящей инициативы и неизменной верности книга эта не вышла бы в свет.
Полвека тому назад умер Достоевский, а творения его и его воздействие живее, чем когда-либо. В образы своего искусства он вдохнул демоническую жизнь; они в смене времен ни на пядь не отстают от нас, не стареют, не хотят удалиться в светлые обители Муз и стать предметом нашего отчужденного, безвольного созерцания. Они узнаются на улицах в сомнительных пятнах уличного тумана, беспокойными скитальцами стучатся в наши дома в темные и в белые ночи, располагаются беседовать с нами в часы бессонницы и ведут тихим знакомым голосом страшные беседы. Достоевский зажег на краю горизонта самые отдаленные маяки, почти невероятные по силе неземного блеска, кажущиеся уже не маяками земли, а звездами неба, — а сам не отошел от нас, остается неотступно с нами и направляет в наше сердце их лучи, жестоко исцеляющие копья света, жгущие жарче раскаленного железа. Каждой судороге нашего сердца он отвечает: «Знаю, и дальше, и больше знаю». Каждому гулу поманившего нас водоворота, каждому взгляду позвавшей нас бездны он отзывается пением головокружительных флейт глубины. И неотвратимо стоит перед нами, с испытующим и неразгаданным взором, неразгаданный сам, а нас разгадавший, — сумрачный и зоркий вожатый в душевномолабиринте нашей души, — вожатый и соглядатай.
Он жив среди нас и идет с нами, ибо при всей своей устремленности ко вселенскому и всечеловеческому он более своих современников стал зачинателем той духовной и душевной сложности, которая значительно предопределила теперешнее самосознание; он стал ее зачинателем и предопределителем благодаря необычайному психологическому и онтологическому углублению и обострению противоречий своего века и своеобразному воздействию принесенных им сил брожения, взволновавших, глубины человеческого под- и сверхсознания. Он открыл, выявил, облек в форму осуществления, — «как Тернер создал лондонские
туманы», — еще не разгаданную многосложность, многослойность, многосмысленность современного человека — вечного человека в его новейшем откровении. Он поставил будущему вопросы, которых до него никто не ставил, и нашептал ответы на еще непонятые вопросы. Благодаря его художественной интуиции перед ним открылись самые тайные импульсы, самые скрытые извилины и бездны человеческой личности. До него мы не знали ни человека из подполья, ни сверхчеловеков, вроде Раскольникова (в «Преступлении и Наказании») и Кириллова (в «Бесах»), этих идеалистических центральных солнц вселенной на чердаках и задних дворах Петербурга, не знали бегущих из мира и от Бога личностей-полюсов, вокруг которых движется не только весь отрицающий их строй жизни, но и весь отрицаемый ими мир — и в беседах с которыми по их уединенным логовищам столь многому научился новоявленный Заратустра. Мы не знали, что в этих сердцах-берлогах довольно места для непрестанной небесной битвы между духовными воинствами Михаила и Люцифера за господство над миром. Он подслушал у судьбы самое сокровенное о том, что человек един и что человек свободен; что жизнь в основе своей трагична, потому что человек не то, что он есть; что рай цветет на земле вокруг нас, но мы его не видим, потому что видеть не хотим; что вина каждого всех связывает, как и его освящение всех святит и его страдание всех искупляет; что грех злого действия может быть искуплен, ибо все его на себя принимают, но не может быть искуплен грех злого сна о мире, потому что отдавшийся сновидению отъединен в своем самоотражении и обречен всецело пребывать в своем сне; что вера в Бога и неверие не два различных объяснения мира, но два разноприродных бытия, существующие рядом как земля и противоземие, подчиненные каждое до конца своему внутреннему закону на своем самостоятельном поле действия.
Чтобы так исследовать, углубить и обогатить наш внутренний мир, чтобы так осложнить жизнь, этому новому Дэдалу нужно было быть сложнейшим и в своем роде грандиознейшим из художников. Он был зодчим подземного лабиринта в основаниях новой духовности вселенского, всечеловеческого я.
И потому взор художника неизменно обращен вовнутрь, и так редко видимо бывает в его творениях светлое лицо земли, ясное солнце над широкими полями, и только вечные звезды глянут порой через отверстия сводов, как те звезды, что видит Дант на
ночлеге в одной из областей Чистилища, из глубины пещеры с узким входом, о котором говорит: «Немногое извне доступно было взору, но чрез то звезды я видел и ясными и крупными необычно».
(Purg. XXVII, 88)
Ho расстояние между пещерой и звездой слишком велико, чтобы можно было преодолеть его средствами чистой эпики, которая, подобно реке, растекается широко и медленно по плоской равнине. Одно лишь никогда доселе не явленное дионисийское искусство могло поведать, как перекликаются душевные бездны (abyssus abyssum invocat — бездна бездну призывает, Псалом XLI, 8). Сценическое изображение было бы тут непригодно: недостаточно интроспективно и многослойно. Был, однако, литературный род, который, хоть и не имел ничего дионисийского, но по природе своей протеической, текучей, изменчивой не мог быть причислен ни к какой строгой литературной форме — и осваивал с равной готовностью и податливостью эпический рассказ и размышление, диалог и монолог, макрокосм и микрокосм, дифирамб и анализ. А кстати он и притязал на роль самого представительного искусства современности, дерзал состязаться с большим искусством прошлого. Почему же не проехать обновленной телеге Дионисовой по военной дороге, проложенной романом?
Вот почему рассказчик странствий по лабиринту являет нам во внутреннем составе своего поэтического дара, сам того не осознавая, свою трагическую природу, и роман становится под его пером трагедией, скрытой эпическим покрывалом, — такова была и Илиада.
Совершенно ново у Достоевского крайнее приближение формы романа к прототипу трагедии. Не то, чтобы он сознательно желал этого и тяготел к этому из целей художественных: напротив, он
действовал совершенно неумышленно. Все его существо требовало этого: он мог творить только так, потому что он только так мог освоить жизнь мыслию и лицезреть ее в образах. И поэтому все, что он хотел рассказать в эпическом повествовании (он никогда не пытался писать драмы, границы сцены были для него явно слишком узки), принимало форму трагедии и следовало — в целом и в малейших частностях — ее внутренним законам. Нет более поразительного примера тождества формы и содержания, если понимать под содержанием первичную интуицию жизни, а под формой — способ выявить эту интуицию художественными средствами плоти и крови нового мира живых образов.
Эсхил говорит, что его творчество — лишь крохи от Гомерова пира. Илиада возникла как первая и величайшая трагедия, в ту эпоху, когда о трагедии как о художественной форме еще не было и помина. Древнейший по времени и недосягаемый по совершенству памятник европейского эпоса был внутренне трагедией как по замыслу и развитию действия, так и по одушевляющему его пафосу. По древнему определению, Илиада, в противоположность «нравоописательной» («этической») Одиссее, поэма «патетическая», то есть представляющая страсти героев. В Одиссее исконная трагическая закваска эпоса уже истощилась: после нее начинается медленное падение всего героического эпоса, а та эпическая форма, которую мы называем романом, развивается все могущественнее, становится в новую эпоху все более и более обширной и разнообразной. В своем стремлении усвоить все атрибуты большого искусства она достигает полной зрелости до вмещения в свои формы чистой трагедии.
Эпос по Платону — смешанный род, отчасти повествовательный или известительный, отчасти подражательный или драматический, — там, где рассказ прерывается многочисленными и длинными монологами или диалогами действующих лиц, чьи слова в прямой речи звучат нам как бы через уста вызванных чарами поэта масок невидимой трагической сцены. Итак, по мысли Платона, лирика и эполира, с одной стороны, обнимающие все, что говорит поэт от себя, и драма — с другой, объемлющая все то, что поэт намеренно влагает в уста других лиц, суть два естественных и беспримесных рода поэзии, эпос же совмещает в себе нечто от лирики и нечто от драмы. Эта Платоном правильно признанная смешанная природа эпоса объяснима его происхождением из описанного Александром Веселовским и
названного «синкретическим», всеобщего музического искусства первобытных времен, где эпос еще не был отделен от музыкально-орхестического священного действа и лицедейства.
Так или иначе, трагические элементы, составляющие содержание и внутреннюю форму Илиады, это то историческое основание, в силу которого мы должны рассматривать роман-трагедию не как искажение чисто эпического романа, а как его обогащение и восстановление в полноте присущих ему прав. Каковы же, однако, признаки, оправдывающие наше определение романа Достоевского как романа-трагедии? Трагичен, по существу, во всех крупных произведениях Достоевского, прежде всего, сам поэтический замысел.
«Die Lust zu fabuliren» — самодовлеющая радость выдумки и вымысла, ткущая свою пеструю ткань разнообразно сцепляющихся и переплетающихся положений, — когда-то являлась главною формальною целью романа; и в этом фабулизме эпический сказочник, казалось, всецело находил самого себя, беспечный, словоохотливый, неистощимо изобретательный, меньше всего желавший и хуже всего умевший кончить рассказ. Верен был он и исконному тяготению сказки к развязке счастливой, которая удовлетворяет чувству симпатии, родившейся в нас после столь долгих странствий на ковре-самолете и приключений, пережитых совместно с героем, и спокойно возвращает нас в привычный круг, домой, идеально насыщенных многообразием жизни, отразившейся в тех зеркальных маревах, что стоят на границе действительности и сонной грезы, исполненных нового, здорового голода к восприятию впечатлений бытия более молодому и свежему.
Пафос этого беззаботного «праздномыслящего», по выражению Пушкина, фабулизма, быть может, невозвратно утрачен нашим омраченным временем.
К тому же, существенные разветвления главного ствола образовали роман идеологический (так, например, давно до Руссо, утопические повести) и романы, посвященные описанию душевных настроений (не только сентиментальные романы, но уже «Фиамметта» Боккачио). Однако Достоевский — как и Бальзак или Диккенс, которые явно влияли на него, — совершенно справедливо не хотел и не имел нужды жертвовать солидной техникой еще вполне живого фабулизма, его богатством непредвиденных происшествий, их таинственным сплетением, искусством
держать читателя до последней минуты в томительном ожидании развязки казалось безысходно запутанных событий. Но этот яркий и разнообразный материал подчиняется у Достоевского одной высшей архитектонической цели. Он нужен в каждой из своих малейших и, на первый взгляд, несущественных частностей для построения трагедии.
В необычайно, — казалось бы, даже чрезмерно развитом и мелочно обстоятельном прагматизме Достоевского нельзя устранить ни одной малейшей частности: в такой мере все частности подчинены, прежде всего, малому единству отдельных перипетий рассказа, а эти перипетии, в свою очередь, группируясь как бы в акты беспрестанно стремящейся вперед драмы, являются железными звеньями логической цепи, на которой висит, как некое планетное тело, основное событие, цель всего рассказа, со всею его многознаменательною и тяжеловесною содержательностию, ибо на этой планетной сфере снова сразились Ормузд и Ариман, и катастрофически совершился на ней свой апокалипсис и свой новый страшный суд.
Роман Достоевского есть роман катастрофический, потому что все его развитие спешит к трагической катастрофе. От того, что мы называем трагедией, он отличается, — если мы оставим внешнюю форму рассказа и займемся только внутренней структурой рассказываемого, — лишь тем, что вместо немногих простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию потенцированную. Как будто мы смотрим на трагедию в лупу и видим в ее молекулярном строении отпечатление и повторение того же антиномического принципа, какому подчинен весь организм. Каждая клеточка несет в себе зародыш развития внутренней борьбы, и, если катастрофично целое, то и каждый узел катастрофичен в малом. Отсюда тот своеобразный и вполне соответствующий природе трагедии закон эпического ритма у Достоевского, беспрерывно утяжеляющий вес событий и обращающий все его создания в систему напряженных мышц и натянутых нервов.
Все это делает эти создания тем более властными над нашей душой, чем мучительнее становится требуемое от нас усилие. Отсюда — а не от вивисекции страдающей души — вытекают жалобы на «жестокий талант», который запрещает нам радость
и наслаждение; мы должны исходить до конца путь извилистый, путь, по которому ведет нас все более и более страшное и темное действие. И даже своенравные причуды его, по обыкновению романтиков, постоянно проявляющегося юмора нас не увеселяют. Мы должны выпить горькую чашу до дна, прежде чем достигнуть отрады и света в «трагическом очищении». Но чем становится в произведениях Достоевского это «очищение», на котором так настаивает Аристотель в своем знаменитом определении трагедии и о котором так много спорят?
Очищением (катарсис) должна была разрешаться античная трагедия. В древнейшую пору, когда трагедия еще не потеряла свое религиозное значение — блаженное освящение и успокоение души — все действенно приобщившиеся таинствам страстного служения Дионису чувствовали себя по окончании священнодействия (δρώμενα) оправданными и благими. Аристотель, желая основать эстетику самое по себе, избегая привносить в нее элементы религиозного чувствования, изображает катарсис, как целительное освобождение души посредством вновь восстановленного равновесия, как medicina animae в психологическом смысле, освобождение души от хаотической смуты поднятых в ней со дна действием трагедии аффектов, преимущественно аффектов страха и сострадания. Сгущение этих аффектов опасно для души, если они не находят выхода, но через совместное переживание трагической судьбы героя они благотворно «разряжаются». Не следует, однако, забывать, что перед нами теоретическое построение, автор которого не мог уже сам лично пережить трагическое действие эпохи расцвета; он сознается это показательно, — что предпочтительнее читать трагедии, чем видеть действа на просцениуме; естественно, что он старается обмирщить понятия о Дионисовом очищении, о Дионисовом поборении ужаса перед смертью, о Дионисовом сострадании страстям героя и таким образом спасти эти понятия и перенести их в свою забывшую священный язык культуру.
Ужас и мучительное сострадание — именно по формуле Аристотеля — поднимает у нас со дна души «жестокая» (ибо до последнего острия трагическая) муза Достоевского, но и приводит нас всегда к возвышающему, освобождающему потрясению, запечатлевая этим подлинность и чистоту своего художественного действия, — как бы мы ни истолковывали «очищение», это понятие, о содержании которого столько спорим с точки зрения психологической, метафизической или моральной. Пройдя трудный
путь через одно из больших произведений нашего эпотрагика, мы из непосредственного опыта познаем, что не напрасно все израненное, судорожно сжималось наше сердце, не напрасно, потому, что в нас совершилось какое-то неизгладимое событие, что мы стали отныне в чем-то иными; — какое-то неуловимое, но осчастливливающее утверждение смысла и ценности жизни и страдания затеплилось звездой в нашей, от чего-то жертвенно и тайно отрешившейся и тем уже облагороженной, что-то приявшей и в муках зачавшей, но уже этим богатой и оправданной душе. Такое действие ставит себе целью поэт; как у древних некоторые трагедии («Освобожденный Прометей», «Эвмениды», «Эдип в Колоне») должны были торжественно утвердить оправдывающий и примиряющий апофеоз героических страстей, так и Достоевский, в эпилоге «Преступления и Наказания», показывает духовное перерождение человека внутренне доброго, но заблудившегося в темном пути; и это новое рождение человека похоже на крепкий, пробуждающийся из здоровых корней новый росток, вырастающий в мощный ствол на месте старого, испепеленного молнией возмездия; а в последней части «Братьев Карамазовых», молодой мученик так высоко прославлен, что мы утешены и благословляем его темную жертву, как неиссякаемый источник целительной благодати для нас. И так творчески сильно, так преобразительно катартическое облегчение и укрепление, какими Достоевский одаряет душу, прошедшую через муки ада и мытарства чистилища до порога мира, что мы все уже давно примирились с нашим суровым вожатым, и не ропщем более на трудный путь.
Неразумно признавать у художника несовершенством то, что приводит к такому переживанию. Но недостатком манеры можно назвать однообразие некоторых приемов, которые кажутся как бы прямым перенесением условий сцены в эпическое повествование: искусственное сопоставление лиц и положений в одном месте в одно время; ведение диалога, менее свойственное действительности, нежели выгодное при освещении рампы; изображение психологического развития так же сплошь катастрофическими толчками, порывистыми и исступленными доказательствами и разоблачениями, на людях, в самом действии, в условиях неправдоподобных, но сценически благодарных; округление отдельных сцен завершительными эффектами действия, чистыми «coups de théâtre», — и, в тот период, когда истинно катастрофическое еще не созрело и наступить не может, предвосхищение его в каррикатурах катастрофы, сценах скандала.
Так как по строго применяемой формуле Достоевского (также сценической, по существу) все внутреннее должно быть обнаружено в действии, он неизбежно приходит к необходимости воплотить антиномию, лежащую в основе трагедии, — в антиномическом действии. Оно же, в зависимости от сферы, в которой происходит, всегда оказывается преступанием пределов строя космического (так воспринимала древняя трагедия вину Прометея, Пентея, Ипполита) или строя общественного (Антигона), но в этом случае подобное преступание пределов в острейшей его форме мы обозначаем как преступление.
Итак, в центре трагического мира писателя — преступление. Изучая его, Достоевский вспоминает и проверяет все, что узнал он о глубинах, о скрытых стремлениях человеческого сердца. Анализ его, конечно, прежде всего психологический и социологический, но великий психолог, который противопоставляет психологическому пониманию «более реальное» проникновение в тайну человека, не может остановиться на этом. Ведь то, что сам он испытал, проникая в глубины человеческого сердца, увело его далеко от сферы явлений, которые можно эмпирически описать или предвидеть. И проникновение в сверхъэмпирическую природу свободы воли обусловливает основную трагичность его мировоззрения. Не в земных переживаниях заложены корни той воплощенной духовно-душевной сущности, которая именует себя человеком, а в надмирном бытии, и у каждой индивидуальной судьбы свой «пролог на небесах». В предмирном плане, где Бог и диавол борются за судьбу твари, — «и их поле брани сердце человека» — incipit tragoedia.
Ибо для эмпирического взора человек являет себя, если не совершенно лишенным свободы, то во всяком случае не абсолютно свободным. Но это не так; ведь иначе человек не был бы человеком, то есть единственным среди творений Бога, кому дано жить трагически. Как бы ни зависел он в своей душевной или физической жизни от внешнего мира, в глубинах его существа живет его собственный автономный закон, которому в конце концов все, что его окружает, как-то пластически повинуется. Последний импульс его действий и противодействий на земле, неизмеримая глубина его я, определяются им самим, утверждаются автономно. Там, где нет свободного самоопределения, мы можем говорить о «трагичном» лишь в переносном и
неточном смысле, ибо настоящая трагедия человеческой жизни раскрывается во внешних действиях только поскольку они отражают вневременную, первородную трагедию человеческого умопостигаемого существа. Завязку трагического действия Достоевский переносит в сферу метафизическую, где мы, водимые поэтом, догадываемся о чистом действии свободной воли и лицезрим его в духе.
Вот почему Достоевский должен объяснить и обусловить преступление трояко: во-первых, из метафизической антиномии личной воли, которая, призванная решить между бытием для себя и бытием в Боге, должна выбрать ту или другую возможность, или, вернее, подчинить одну другой, и тем самым свободно определить основной закон своего существования; во-вторых, из психологического прагматизма, то есть из связи и развития периферических состояний сознания, из цепи переживаний, из патологии страстей, из зыби волнений, приводящих к решительному толчку, последнему аффекту, необходимому для преступления; в-третьих, наконец, из прагматизма внешних событий, из их паутинного сплетения, образующего тончайшую, но мало-помалу становящуюся нерасторжимой ткань житейских условий, которыми жизнь окружает свою жертву, из сплетения действия и совпадения обстоятельств, логика которых неотвратимо приводит к преступлению. Совместное действие всех этих явлений отражено, кроме того, в плане общественном, так что мы ясно видим, как воля соборная тайно влияет на самоопределение личной воли.
Этот «maestro di color che sanno», — мастер и первый из наделенных ведением, если речь идет о глубинах человеческого сердца, — вышеопределенным тройным исследованием причин преступления наглядно и жизненно являет нам тайну антиномического сочетания обреченности и вольного выбора в судьбах человека. Он как бы подводит нас к самому ткацкому станку жизни и показывает, как в каждой ее клеточке пересекаются скрещенные нити свободы и необходимости. Метафизическое его изображение имманентно психофизическому; каждый волит и поступает так, как того хочет его глубочайшая, в Боге лежащая или Богу противящаяся и себя от Него отделившая, свободная воля, и кажется, будто внешнее поверхностное воление и волнение всецело обусловлены законом жизни, но закон этот не может восставать против высшей, самим человеком на себя взятой обусловленности, которая и есть выражение его свободного само
самоопределения. То изначальное решение, с Богом ли быть или без Бога, каждую минуту сказывается в сознательном согласии человека на повелительное предложение каких-то бесчисленных духов, предписывающих ступить сюда, а не туда, сказать то, а не это. Ибо, при раз сделанном метафизическом выборе, поступить иначе, в каждом отдельном случае, и нельзя, сопротивление просто неосуществимо, а первоначальный выбор неизменен, если раз он совершился, он в самом существе человеческого я, выбравшем для себя то или иное свойство.
То, что в трагедиях Софокла представляется как непостижимый приговор судьбы, возвышается Достоевским (подобно Эсхилу, который ставит на место Ананке заслуженное человеком проклятие богов) в первоначальный метафизический акт воли человеческой души, которая или обращается к Богу и тем самым на всю свою земную жизнь сохраняет глубинное чувство Его присутствия и веру в Него — или отдаляется от Него — и тогда она не может в течение всей жизни вспомнить о Нем, не может верить в него, даже если к вере стремится и о вере говорит. Отъединенная, она висит в пустом пространстве и не находит подлинного доступа к людям — ибо только в Боге может человек реально найти человека; ей снятся человек и мир, и она ненавидит свой сон и свою похоть к обману и тягостному сну; она хочет убить окружающие ее призраки и в отчаянии стремится погрузиться в небытие и так освободиться от угнетающего бремени.
И только благодатная смерть в духе, за которой следует новое рождение, — смерть ветхого человека в личности, — может ее спасти через обетованное ей искупление. Это умирание и возрождение, которое мы сравнивали с прорастанием новых ростков из старых корней, возможно лишь там, где корни действительно здоровы, где отрыв от Бога исходит не из окончательного решения метафизического я, но есть лишь антитетический момент предмирной драмы, момент своевольного отдаления от Бога возгордившегося человека, возмечтавшего испытать необузданную мощь свободного и автономного акта, момент самовольного, онтологического отступления и саморасточения (род кенозиса, стало быть, человеческой богоподобной личности), — тогда, после всех тяжких переживаний и разочарований все еще возможен возврат в Отчий дом, после всех блужданий или преступлений все еще может раскаявшийся разбойник произнести: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Желание изобразить во что бы то ни стало сценически, во внешних действиях, самые сокровенные состояния души преобладает над спокойным объективизмом эпоса. Преувеличенное обострение, свойственное такому изображению, кажется патологическим даже там, где переживание, как бы ни было оно сложно, не имеет в себе ничего болезненного. Патетическое постоянно готово перейти в неестественную напряженность, если не просто в истерику. Герои романа, которые до конца переживают свой трагический внутренний разрыв, живут и действуют в состоянии исступления, то тихого, то яростного.
Повышенному, чрезмерно взволнованному тону диалога резко противостоит сухой, деловой, судебно-протокольный стиль повествования. И из-за криминалистической постройки романа у читателя создается впечатление, что он присутствует на долго подготовленном, необычайно сложном и тяжелом процессе. Все это должен принять тот, кто, читая грандиозные произведения своеобразного гения, испытывает зараз и несказуемую боль и глубокое наслаждение.
Сухим языком делового отчета и подробного протокола Достоевский достигает иллюзии необычайного реалистического правдоподобия, безусловной, почти документальной достоверности. Ею он прикрывает чисто поэтическую, грандиозную, одним взлетом подымающуюся над миром эмпирическим условность создаваемого им мира, не такого, как мир действительный, в нашем повседневном восприятии, но так ему соответствующего, с таким ясновидением угаданного в его соотношениях с жизнью реальной, что сама действительность как бы спешит отвечать этому Колумбу человеческого сердца обнаружением предвиденных и как бы предопределенных им явлений, дотоле таившихся за горизонтом.
Иллюзия соразмерности с ритмом и рельефом действительности скрадывает от глаз читателя и почти угрожающую громаду колоссальной фантазии русского Шекспира; а за умышленно прозаическим и протокольным слогом, презирающим всякого рода прикрасы, обычно не замечают необычайной, можно сказать, неизбежной точности и могучей лепки великолепно выразительного и адэкватного предмету языка, — ценного уже своей освободительной энергией, своим мятежом против условных литературных ужимок, чопорной гладкости и притворства.
Вывод из этих наблюдений над внешними покровами созданий Достоевского, над его стилем, был бы, однако, неполон, если бы мы не приняли в расчет одного могущественного приема изобразительности, при помощи которого романист умеет магически превратить протокол уголовного следствия в ткань чисто поэтического рассказа: Достоевский умеет мастерски обострить трагическую атмосферу целого своеобразным освещением, ярким озарением и игрой света и тени. В этом он подобен Рембрандту, характеристика которого у Бодлэра живо напоминает страдальческий мир нашего поэта, его «Мертвый дом»:
У Толстого, его великого современника и соперника, все купается в рассеянном свете, ни на минуту не позволяющем сосредоточиться на частной форме до забвения просторов окружающего целого. Достоевский весь в темных скоплениях теней по углам замкнутых затворов, весь в ярких озарениях преднамеренно брошенного света, дробящегося искусственными снопами по выпуклости и очертаниям впадин. Так представляется лабиринт тому, кто входит с факелом, исследуя казематы духа, пропуская в своем луче сотни подвижных в подвижном пламени лиц, в глаза которых он вглядывается своим тяжелым, обнажающим, внутрь проникающим взглядом.
Достоевский, разведчик и ловец в потемках душ, не нуждается в общем озарении предметного мира. Намеренно погружает он свои поэмы как бы в сумрак, чтобы, как древние Эриннии, выслеживать и подстерегать в ночи преступника, и таиться, и выжидать за выступом скалы, и вдруг, раскинув багровое зарево, обличить бездыханное, окровавленное тело и вперившего в него неотводный, помутнелый взор бледного, исступленного убийцу. Муза Достоевского, с ее экстатическим и ясновидящим проникновением похожа вместе на обезумевшую Дионисову Мэнаду, устремившуюся вперед, «с сильно бьющимся сердцем», — и на другой лик той же Мэнады — дочь Мрака, ловчую собаку богини Ночи, змееволосую Эриннию, с искаженным лицом, чуткую к пролитой крови, вещую, неумолимую, неусыпимую мстительницу, с факелом в одной и с бичом из змей в другой руке.
Наивным идеализмом можно назвать первоначально присущее человеку как индивиду мировосприятие, при котором объект — бессознательно — полагается частью содержания своеначально утверждающегося субъекта: реальная сущность «ты» на этой ступени еще не открыта. Развитие людских взаимоотношений, открытие извне тайно действующих сил в одушевленном мире, вырабатывая ритуальные, правовые и нравственные начала, приводят с собою эпоху наивного реализма. На почве последнего развивается более высокая нравственность, глубоко укорененная в религии; она утверждает в человеке чувство трансцендентной реальности окружающих его существ и вещей, тогда как после распада старых религиозных представлений, отщепившееся от практического разума познание склоняет познающего, поскольку он отказался от всех прежних религиозных предпосылок, снова к его природному идеализму. Но так как этот идеализм давно уже потерял свою первоначальную наивность, познающее я стремится отвлечься от эмпирического содержания личности; чистый разум возводит субъективное сознание in abstracto в сферу универсального. Но первой и вероятно единственной попыткой произвести нравственную религию из чисто идеалистического познания был буддизм, к которому еще в наши дни многие испытывают сильное притяжение: ведь современное сознание, даже если оно иногда и прибегает к материалистическому объяснению природы (с Фейербахом или с Карлом Марксом), стоит до сих пор под знаком философской мысли, которая нашла свое высшее выражение в Гегеле.
При таком состоянии духа подымается на развалинах больших идеалистических систем и проявляет себя с жуткой силой новая угроза, в которой Достоевский приметил один из лейтмотивов древней борьбы человека с Богом. Человек в своих действиях отучившийся в течение тысячелетий полагать себя автономным по отношению ко всему окружающему миру, в решающем акте познания, тем не менее, полагает все лишь своим объектом; ища в себе меру всех вещей, он близок к искушению признать себя самого единственным источником всех норм. Если понятие абсолютного, пройдя через стадию метафизической абстракции, превращается в призрачный концепт, познание должно
неотвратимо провозгласить в конце концов всеобщую относительность всех признанных ценностей. Не удивительно, что личность, замкнутая в своем субъективистском одиночестве, либо отчаивается, либо горделиво торжествует апофеозу своей беспочвенности. Об опасности такого всемирного идеализма говорит Достоевский в эпилоге «Преступления и Наказания», под символом «какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу»... Тут мы читаем между прочим:
«Никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга.
В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие... Спастись во всем мире могли только несколько человек; это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».
Так припоминает свой недавний бред спасенный Раскольников, «уже выздоравливая». Но символы, снящиеся его душе, отражают в фантастической проекции то, о чем недавно сам он бредил наяву, свое сверхчеловеческое самоутверждение в той — скажем точнее, не автаркии, а автархии* — мысли и воли, одинокого своеначальства, поставившего весь мир только пластическим объектом единственного субъекта магического познания. Против таких духовных настроений, породивших отравленные ростки, выступает Достоевский поборником миросозерцания,
которое он сам считает «реалистическим», вернее «реалистическим в высшем смысле». Каково же существо этого защищаемого им реализма?
Зиждется этот реализм не на теоретическом познании, с его постоянным противоположением субъекта и объекта, а на акте воли и веры, который соответствует приблизительно Августинову «transcende te ipsum”*; для обозначения этого акта Достоевский выбрал слово «проникновение», т.е. интуитивное прозрение, духовное проницание; он пользуется этим словом почти как terminus technicus, выражающим понятие «отождествления себя с другим» — «sicheinssetzen». Проникновение есть некий transcensus субъекта, такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как другой субъект. Это — не периферическое распространение границ индивидуального сознания, но некое передвижение в самих определяющих центрах его обычной координации; и открывается возможность этого сдвига только во внутреннем опыте, а именно в опыте истинной любви к человеку, которая потому есть реальное познание, что она совпадает с абсолютной верой в реальность любимого, и в опыте самоотдачи и самоотчуждения личности вообще, уже переживаемом в самом пафосе любви. Символ такого проникновения заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением, чужого бытия — в «ты еси». При условии этой полноты утверждения чужого бытия, полноты, в которой и через которую все содержание моего собственного бытия снимается и исчерпывается (exinanitio, ϰένωσις), чужое бытие перестает быть для меня чужим, «ты» становится для меня другим обозначением моего «я». «Ты еси» — не значит более «ты познаешься мною, как сущий», а «твое бытие переживается мною, как мое, твоим бытием я снова познаю себя сущим». Es, ergo sum.* Альтруизм, как мораль, конечно не вмещает в себе целостности этого внутреннего опыта: он совершается в глубинах мистически взволнованного сознания, и всякая мораль оказывается по отношению к нему лишь явлением производным.
Глубоко чувствуя, что такое проникновение лежит вне сферы познавательной, Достоевский является последовательным поборником инстинктивно-творческого начала жизни и утвердителем его верховенства над началом рациональным. В ту эпоху, когда, подобно тому, что было в Греции в пору софистов, начал
приобретать господство образ мыслей, полагающий все духовные ценности лишь относительными на ярмарке мнений, — Достоевский не пошел, как Толстой, по путям Сократа на поиски за нормою добра, совпадающего с правым знанием, но, подобно древнейшим трагикам Греции, остался верен духу Диониса. Он не обольщался оптимистическою мыслию, что добру можно научить доказательствами и что правильное понимание вещей, само собою, делает человека добрым. Он повторял, как обаянный Дионисом: «Ищите восторга и исступления, землю целуйте, прозрите и ощутите, что каждый за всех и за все виноват, и радостию такого восторга и постижения спасетесь; истинно. только так исцелитесь».
Реализм, понятый в выше раскрытом смысле, прежде всего деятельность воли, качественный строй ее напряжения (τόνος), в котором, однако, уже есть своего рода познание. Поскольку добрая воля непосредственно сознает себя, она несет в себе абсолютное познание, которое мы называем верой. Вера знак здоровой воли; ее земные корни в стихийно-творческом начале жизни; ее движение, ее тяготение безошибочны, как инстинкт.
Реализм Достоевского был его верою, которую он обрел, потеряв «душу» свою — свое я. Его проникновение в чужое я, его переживание чужого я, как самобытного, беспредельного и полновластного мира, содержало в себе постулат Бога, как реальности, реальнейшей всех этих онтологических сущностей, из коих каждой он говорил всею волею и всем разумением: «ты еси». И то же проникновение в чужое я, как акт любви, ищущий единство всех людей («да будут все едино», Ин. 17, 21), готовый самое смерть вызвать на поединок, чтобы излечить человека от змеиной отравы начала индивидуации, — то же откровение, приносящее ужас и благодатное постижение того, что «всякий за всех и за все виноват», содержит в себе постулат Христа, осуществляющего искупительную победу над законом разделения и проклятием одиночества, над миром, лежащим во грехе и в смерти.
Ибо без Ens Realissimum, без Спасителя, все усилия личности выйти из ее метафизического одиночества были бы с самого начала тщетны. Но это не так. Хоть и бессильно мое усилие, относительно мое «проникновение», хоть стрела желания не вонзается в свою цель до глубины, — все же не лжет и не ошибается мое стремление.
«Верь тому, что сердце скажет», — повторял с убеждением Достоевский за Шиллером; пламень сердца есть «залог от небес». Залог чего? Залог возможности всецелого оправдания этих алканий человеческой воли, ищущей освободиться от цепей первородного греха, сковывающих ее в узах разлуки с Богом и с людьми, и тоскующей по вселенскому соединению в Боге. Итак, человек может вместить в себе Бога. Или сердце мое лжет, или Богочеловек — истина. Он один обеспечивает реальность моего реализма, действительность моего действия и впервые осуществляет то, что смутно сознается мною, как существенное, во мне и вне меня.
И нельзя было, при предпосылке такого реализма в восприятии и переживании чужого я, рассуждать иначе, чем Достоевский, утверждавший, что люди, эти сыны Божии, воистину должны истребить друг друга и самих себя, если не знают в небе единого Отца и в собственной братской среде — Богочеловека Христа. Поистине, тогда весь на «ты еси» основанный реализм падает и обращается в противоречащий ему конечный солипсический нигилизм. Ибо если после попытки проникновения в чужое я не нахожу я в себе веры в Бога, то явно обманул меня опыт любви — не было в нем того существенного познания, которое должно было открыть мне настоящее бытие. Но явно это не была настоящая любовь; когда я говорил своему ближнему: «ты еси», я мнил в своем сердце: «во истине тебя нет». Я считал себя вправе восклицать: «твое бытие переживается мною, как мое»; но так как я не смел добавить: «и твоим бытием я снова нахожу себя сущим», то и первая часть моего утверждения была пустой иллюзией, ибо она только провозглашала, что мы оба висим в пустом пространстве, призраки, равно лишенные бытия. Натянутый лук воли, спускающий стрелу моей любви в чужое я, напрасно окрылил стрелу, и, описав круг, она снова и снова вонзается в меня самого, пронесясь в пустом пространстве, где нет
реальнейшего, чем я сам, я — тень сна. Тогда моя любовь превращается в ненависть — ибо любовь может существовать только в бытии, а ненависть воспаляется и в небытии. И мне безразлично, кого я ненавижу: мне подобных теней, собратьев моих, которых я держу в себе вместо того, чтобы быть ими утвержденным и спасенным в бытии — или себя самого в них, призраках моего сна. Во всяком случае, я могу с ними делать, что хочу, ведь сновидящий свободен — могу, если предпочту, закончить злой сон — убить себя и с собой убить весь содержимый мною мир.
Атеизм, возведенный в практическую норму общественной жизни, приводит, думает Достоевский, сначала к вырождению и искажению, а потом, к окончательному отмиранию нравственного чувства. Нравственность, не основанная на религии, выявляет рано или поздно свою неспособность утвердить независимую и абсолютную природу своих ценностей. В «Легенде о Великом инквизиторе» нам представлена та моральная степень извращения, когда уже не признаются и не уважаются ни достоинство, ни свобода человека: умнейшие и дерзновеннейшие из тех, которые мнят себя благодетелями глубоко презираемого ими человечества и внутренне гордятся своей самоотверженностью, держат под своей безграничной тиранией обманутое ими и тем самым утешенное людское стадо, которому они обеспечивают пишу и плотские наслаждения. В конце этого процесса «антропофагия». Вера в Бога, согласно этому ходу мысли, подобна золотому запасу, наличием которого гарантируется ценность личности: если фонд иссяк, личность обесценивается. Некоторые более благородные личности не переносят такого подтвержденного через consensus omnium* онтологического обесценивания; они сходят с ума или, полуобезумев, ищут прибежища в самоубийстве, в котором видят единственное достойное их действие. Так поступает воображаемый Достоевским молодой автор «Письма самоубийцы», который объясняет свое решение протестом против «природы».
Таким образом, выбор между да и нет, утверждение или отрицание трансцендентного личного существования Бога становится для Достоевского воистину альтернативою «быть или не быть». Быть ли личности и ее бессмертной душе, быть ли добру, человечеству и Тому, Кто все мистически в себе содержит и все
объединяет в одном понятии — Богочеловека? Ведь это для нашего мыслителя обязательные последствия веры в живого Бога — или Христос умер напрасно? Итак, или христианское оправдание единственно возможное — жизни и страдания, человека и самого Бога, или метафизический бунт, провал в демоническое, слепое падение в бездну, где не-бытие в ужасающем страдании стремится родить бытие и поглощает рожденные им призраки. Ибо человеческая душа, коль отчаялась она в Боге, неотвратимо тянется к хаосу; все искаженное и устрашающее восхищает ее, и из скрытых глубин Содома манит ее улыбкой красота, притязающая соревновать с красотой Мадонны. Вопрос веры становится в прямом смысле вопросом о спасении души: лишь искупляющее и исцеляющее страдание может еще спасти от мистического самоубийства онтологическую сущность человека, его божественное призвание.
На распутье, где ждет человека решающий его судьбу выбор, стоял и Толстой, в сомнении и смятении. Но ему было психологически важно спасти с помощью евдемонистической морали ценность каждого отдельного человека от угрожающего ей чувства пресыщенности и отвращения к жизни — то, что ему самому удалось в им намеченных границах, так как из-за своего все увеличивающегося taedium vitae* он уже был готов к спасению в буддистском смысле этого слова (а другого смысла он в религии и не искал). Исходя из опыта глубокого удовлетворения, следующего нравственно правому действию, Толстой указывает на три условия, исполнение которых даст человеку постоянный мир с самим собой и с Богом, с его собратьями и с природой. «Я есмь; бытие мое основано на правде-истине и правде-справедливости, на нормах познания и воли совести, находящихся между собой в такой гармонии, что все, что требует совесть, всегда подтверждается познанием, что истина и добро в конце концов суть тождественные понятия. Бытие мое становится истинным бытием, если строй этой гармонии ничем не нарушен в моем сознании и определяет собою все проявления моей личности в жизни; начало этой гармонии я сознаю в себе, как дыхание Бога, из чего уверяюсь в Его бытии, независимом от моего бытия, но мое бытие обусловливающем и определяющем; божественное начало во мне всегда бессмертно». Такой путь разумения свойствен был Льву Толстому, в его искании summum bonum.* Нашему трагически вдохновенному поэту был этот успокоительный образ мысли чужд, да он, кстати, никогда не удовлетворял до конца
и самого Толстого. В своей рецензии на роман «Анна Каренина», герой которого идет по этому пути и счастлив, что он наконец убедился в существовании Бога, Достоевский выражает сомнение и спрашивает себя, действительно ли это уже вера.
Религиозное мировоззрение Достоевского не исходит из медленного процесса назревания; оно не стремится достигнуть неких заранее намеченных целей, подобно последовательному познаванию, приходящему через цепь логических звеньев к своим окончательным заключениям. У Достоевского возникают глубокие душевные конфликты, и из них сильнейший диалектик черпает богатый материал для трагедий духа, где в разных видах являет себя метафизический бунт, — но эти грандиозно воздвигнутые антитезы тут же снимаются, ибо они не только не стирают уже обретенное душой и в ней запечатленное познание, но расширяют его и углубляют. Духовный рост этого страстного человека — не плод постепенного развития; в его духовной жизни есть тот же катастрофизм, который в его произведениях выявляет их имманентную трагичность. Быть может, в ту минуту, когда он стоял на эшафоте и глядел в глаза ставшей пред ним в упор смерти, совершилось в нем какое-то внезапное и решительное душевное изменение, какая-то благодатная смерть, за которой немедленно и неожиданно последовала пощада, данная телесной оболочке жертвы. Годы каторги и ссылки, смиренно и отреченно прожитые бывшим невером и бунтовщиком, который с истовой любовью погрузился в чтение Евангелия и безропотно разделил общую искупляющую кару с уголовными преступниками, были как бы пеленами, связывавшими новорожденного человека, оберегавшими нужное ему, для полноты перерождения, внешнее обезличение, и освобождение от гордыни самосознания.
В те минуты ожидания смерти на эшафоте (о которых писатель вспоминает позже в «Идиоте»), внутренняя личность упредила смерть и уже за ее вратами почувствовала себя живою, более живою, чем когда-либо (сосредоточенной в одном акте воли, чтобы ничего не потерять из своей до той поры ей неведомой жизненной силы). Личность была насильственно оторвана от феноменального ее предыдущего существования и ощутила впервые существенность бытия под ускользающим покровом видимости вещей, из коей сотканы ограды воплощенного духа. Тот миг, как повивальная бабка (ибо только в образах можно описать такого рода состояние), высвободил из его слепых
вместилищ внутреннее я, дремлющее в чревных глубинах души, но оставил его в земной жизни как бы соединенным пуповиною с материнским лоном: ведь окончательное рождение означало бы смерть. Правда, сохраненная жизнь стала жизнью своеобразной, подобной прославленному Платоном философскому умиранию; она, в своих высших проявлениях, подымалась над волнами жизненного моря, волнующегося в нашем мире, и уносила в нам чуждую, более духовную стихию.
Средоточие сознания кажется у Достоевского отныне иным, чем у других людей. Он сохранил в себе внешнего человека, и даже этот внешний человек отнюдь не представляется наблюдателю нравственно очищенным от исконных темных страстей. Но все творчество прозорливого писателя стало с тех пор внушением внутреннего человека, духовно рожденного, — в мироощущении которого подчас трансцендентное для нас делалось в некотором смысле имманентным, а наша непосредственная внутренняя данность была частично перенесена в иную сферу. Ибо личность была раздвоена на эмпирическую, внешнюю, и более высокую и свободную, метафизически существенную. Обычно у мистиков этот процесс сопровождается полным истощением или глубоким очищением и преображением внешнего человека. Но это дело святости не было провиденциальною задачей пророка-художника.
Оставив своему двойнику, обращенному к внешнему миру, жить, как ему живется, он предался умножению своих двойников под многоликими масками своего, отныне уже не связанного с определенным ликом, но вселикого, всечеловеческого я. Ибо внутреннее я, освобождаясь решительно от внешнего, не может чувствовать себя раздельным от общечеловеческого я со всем его содержанием, и видит в бесконечных формах индивидуации только разные образы и условия своего нисхождения в закон индивидуального существования. Слова: «ничто человеческое мне не чуждо» только тогда бывают реальною правдой, когда во мне родилось я, новое я, отчужденное от всего узко человеческого.
Отсюда все дальнейшие откровения Достоевского о зле духовного одиночества и о чуде единения с чужим я, рождающегося из умирания личности и ее восстановления в соборном сознании; о реальном единстве человеческом и о том, что каждый виноват за чужой грех и каждый причастен к плодам ему неведомой святости; об Элевсинской тайне матерински набожной Земли,
ведающей о смерти и воскресении, и о благочестивом союзе «с древней матерью», в который должно вступить «навек»* (еще цитата из Шиллера!); о «касаниях к мирам иным» и об «их семенах, которые Бог посеял на земле»; об онтологической благодати радости бытия и об адском страдании от неспособности любить и многое другое — все эти подчас загадочные сообщения, увещания, пророчества суть только попытки поведать миру, хотя бы и смутными намеками, — то, что разверзлось перед ним однажды в катастрофическом внутреннем опыте и что время от времени напоминало о себе в блаженных предвкушениях «мировой гармонии», безошибочно предвещающих припадки эпилепсии, — этой, как говорила древность, священной болезни, имеющей силу стирать в сознании грань между нашими переживаниями реализма и идеализма и делать на мгновение мир, представляющийся нам внешним, нашим внутренним миром, а наш внутренний мир — внешним и нам чуждым, как далекое и чудно́е театральное представление.
Так внутренний опыт научил Достоевского тому различению между эмпирическим характером человека и метафизическим, умопостигаемым его характером, которое, идя по следам Канта, философски определил Шопенгауэр. Оно же предполагается в высказываниях Достоевского о природе преступления. Это различение содержало в себе логические постулаты, необходимые исследователю «всех глубин души человеческой», чтобы «найти человека в человеке».** В поэтическом изображении характеров различение это проведено с такою отчетливостью, какой мы не встретим у других художников, и оно придает устрашающий, Дантовский рельеф светотени и исключительную остроту постижения картинам душевной жизни в романах Достоевского.
Каждая человеческая жизнь представляется им как единое происшествие, которое разыгрывается одновременно в трех разных планах. Огромная сложность прагматизма фабулистического, сложность завязки и развития действия служит как бы материальною основою для еще большей сложности плана психологического. В этих двух низших планах раскрывается вся лабиринтность жизни и хитрость случая, который нередко кажется — тайно сговорился с духами, следящими за действием
в высшей метафизической сфере; и тогда даже в ее предопределенных внешних действиях проявляется вся зыбучесть характера эмпирического. В высшем, метафизическом плане нет более никакой сложности, никакой предусловленности: там последняя, завершительная, нагая простота последнего или, если угодно, первого решения, ибо время там как бы стоит, к этому решению восходит каждое действие или же вернее, из него каждое действие исходит. Тут нам дано взглянуть в сокровенную сферу человеческой души, или, говоря словами Достоевского, в его сердце, истинное поле, где встречаются для поединка, или судбища, Бог и дьявол. Ибо здесь человек решает суд для целого мира и выбирает бытие, то есть бытие в Боге, или Ничто, то есть бегство от Бога в небытие. Вся трагедия обоих низших планов приносит только материал для построения и символы для выявления этой верховной трагедии конечного самоопределения богоподобного духа, акт его, только его свободной воли.
Внешняя жизнь, треволнения души, блуждания, маскарады, обманы и самообманы нужны Достоевскому только чтобы подслушать через них одно, окончательное слово личности: «да будет воля Твоя», или же: «моя да будет, противная Твоей». Поэтому весь сложный и доскональный сыск этого метафизического судьи и небесного следователя ведется с одною целью: установить состав метафизического акта воли в действии эмпирическом. И выводы этого сыска оказываются подчас иными, нежели итоги исследования земной вины. Так, в романе «Братья Карамазовы», главным виновным представлен не убийца, — незаконный сын и слуга, который из зависти и желания мести отказывается от своей воли, отдается воле хоть ненавистного ему, но соприродного брата и хозяина, злорадно прислушивается к еле подсказанному ему Иваном решению и с непоколебимой жестокостью исполняет его, — но его соблазнитель, Иван, — скупая и эгоистическая душа которого не может ни принять Бога, ни отказаться от Него; он остается во власти темных сил и изменяет Божию делу из-за своего умопостигаемого слабоволия. Но это его тайное дело, глаз на глаз с Богом; явное же возмездие по Божьему суду постигает Димитрия по судебной ошибке темных мужичков, «за себя постоявших и покончивших Митеньку», мнимого отцеубийцу. Конечно, он пожелал отцу смерти. Как же относится это преходящее пожелание к категориям умопостигаемой воли? Не поет его страждущая душа «Да» и «Аминь» Творцу миров? Но все же часть его я волит иначе и ограничивает
своим хаотическим противлением первоначальную волю целого я, которая есть воля к Богу, то есть воля Божья, воля Сына к Отцу, она же воля Отца к Сыну. Эта страстная часть внутреннего существа Димитрия должна очиститься страданием, потому что страдает все, отделяющееся от первоисточника бытия. Так внешняя слепота людская является орудием Божественного провидения, и кара — благодатью.
Здесь мы касаемся существа трагедии, знаменующей произведения, в которых человеческая жизнь раскрывается и определяется в ее конечном внутреннем составе. Трагедия, в последнем смысле, как и истинная мистика, возможна лишь на почве миросозерцания глубоко реалистического. Трагическая борьба может быть только между действительными, актуальными реальностями. Такие реальности суть для нашего «реалиста в высшем смысле» (это явно значит «в мистическом смысле»), кроме абсолютной реальности Бога, многие миры ноуменальных сущностей, к которым, во всей полноте этого слова, принадлежат человеческие личности. Трагедия разыгрывается между Богом и человеческой душой, отображается в ее воплощении, повторяется, удвоенная и утроенная, в отношениях между реальностями человеческих душ. И будь то из-за первоначальной ненависти к Богу, из гордыни и слепоты оторванного от Бога человеческого познания, или, наконец, из-за затемнения души, объятой дикими страстями: жизненная трагедия вспыхивает снова и снова, снова разжигается борьба между Божественным началом в твари и силою «князя мира cero», причем человек, «в своем темном стремлении», как Димитрий, впадает в разрывающее противоречие с самим собою, высшим и лучшим, или становится жертвою жизни, как «Идиот», воспринимающий мир как совершенную гармонию и успокоение в Боге, но тут же стремящийся к полному воплощению и действенному сопричастию с жизнью и страданием, не способный однако понять закон жизни на земле и следовать ему.
По ощущению природы у Достоевского мы можем измерить и проверить его мистический реализм. Парадоксально чуждаясь искони общепринятого у поэтов обычая и сладостного обряда украшать свои вымыслы описаниями природы, он как бы наложил на себя запрет выступать «природы праздным
соглядатаем», по выражению Фета. Он как бы считает недолжным пересказывать на свой лад, истолковывать «по-человечески, слишком человечески», ее тайную жизнь, отражать себя в ней или отражать ее в зеркале отделившегося от нее духа. Ему хотелось бы только приникать к земле и целовать ее в детском смирении. Очень редко позволяет он себе упомянуть о природе, и всегда с целью указать в нужные и торжественные минуты на ее вечную, недвижимую символику. Так, в эпилоге «Преступления и Наказания» он живописует мимоходом степи кочевников, чтобы окончательно противопоставить заблуждениям мятущейся человеческой личности, тщетно и самоубийственно преследующей призраки, безличную и спокойную Азию, изначальную колыбель человечества, с доселе пасущимися на ее древних пастбищах стадами Авраама. Так, в одно огромное, по своему содержанию, и священное мгновение в жизни Алеши поэт заставляет нас, вместе с ним, созерцать звездное небо. Так, однажды, над темным петербургским переулком теплится звездочка, когда внизу мечется, как сорвавшаяся с неба падучая звезда, какая-то беспомощная и затравленная девочка. Так, в том же «Сне смешного человека», — «ласковое, изумрудное море» целует берега «с любовью явной, видимой, почти сознательной». Так, хаотически шевелится ночной осенний парк над сценой убийства Шатова.
Но Достоевский не живописец внешних явлений и ликов вообще: он ищет запечатлеть внутреннее обличье людей и в Природе хотел бы раскрыть нам только ее душу. А Природа не имеет психологии переменчивой и зыбкой, как человек, и только человеческому идеализму может казаться в этом отношении человекоподобной. Душа ее — не модальность поверхностных переживаний, а субстанциальность мистических глубин. В откровениях старца Зосимы приподымаются мгновением завесы, скрывающие эту таинственную жизнь; да еще дурочка, Марья Тимофеевна, в «Бесах» разоблачает перед нами, своим детским языком, в символах своего ясновидения, неизреченные правды:
'«А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно». Они мне все в один голос: «вот на!» Игуменья рассмеялась, зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, — хочешь покажу? Ну, а монашек стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил, и с таким, надо быть, умом; сижу я и слушаю. «Поняла ли?» спрашивает. «Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое». Вот с тех пор они меня одну в
полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица, что есть, как мнишь?» «Великая Мать, отвечаю, упование рода человеческого». «Так, говорит, Богородица — великая Мать Сыра-Земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет; таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор, на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот, я тебе сказку, Шатушка... ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная, длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем, как есть, пополам его перережет; и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет; боюсь сумрака, Шатушка, и все больше о своем ребеночке плачу'.
Достоевский намеренно оставляет темному лепету дурочки его двусмысленное значение, соблазн для фарисейских ушей, в то время как подлинный смысл ее слов далек от будто-бы провозглашаемого в них пантеизма; его философская формула звучит здесь как наивное воспоминание о где-то случайно прочтенной или услышанной и, конечно, плохо понятой ученой фразе. Как мог бы иначе поэт намекнуть на то, что она знает себя единой с Природой; что Природа, как и она, ждет своего желанного небесного Жениха, что ее устами говорит в ней Мать Сыра-Земля о чем-то единственно чаемом: о том, что это прекрасное и зримое солнце — предвестие незаходящего Солнца — Христа и что придет Он облечь ее в свои светлые одежды. Она прозорливо, хоть и
бессознательно, видит христианскую мистерию в вечной литургии Природы: Острая гора с ее тенью, перерезывающей каменный остров и напечатлевающей знак креста, подобна Голгофе; солнце подобно Агнцу Божию. Ребеночек-то, ею оплакиваемый, только воображаемый; но без грезы и скорби о ребеночке не был бы совершенен образ этой женской души, изнемогающей в ожидании далекого Жениха, любимого Спасителя.
Эти песенные слова, быть может, самое нежное, что сказал Достоевский о глубинном ожидании твари, о сокровеннейших тайниках Матери-Земли, о ее смиренном чаянье. По легенде Дивеевского монастыря в Сарове, Богоматерь вошла в пустынь и очертила ограду своей обители на будущие времена. Так, по древнему Гомерову гимну, многострадальная матерь Деметра вошла, после долгих скитаний по земле, в округу Элевсина и затворилась в священный затвор.
Мистический реализм Достоевского, укорененный в древнейших представлениях о живой Матери-Земле, раскрывается в мифологическое истолкование жизни вселенной.
Трагическое начало, определяющее отношения между Богом и человечеством, распространяется за сферу человечества на всю человеку подчиненную тварь и находит соответствие в тайной душевной жизни Природы, которая воспринимается как живая сущность, зависящая от окончательного самоопределения человека и, на свой лад, чувствующая эту зависимость. Мать-Земля, которая в конце концов представляет всю Природу и которую наш поэт особенно чтит, вовлекается в весь цикл богочеловеческих страстей. Человек несет перед Землей древнюю вину и еще увеличивает ее своей греховностью; но святостью своей он причастен и к ее искуплению, обетованному ей в конце времен через преображение ее во Христе. Больше об этом мы скажем низке, размышляя о Достоевском-мифотворце.
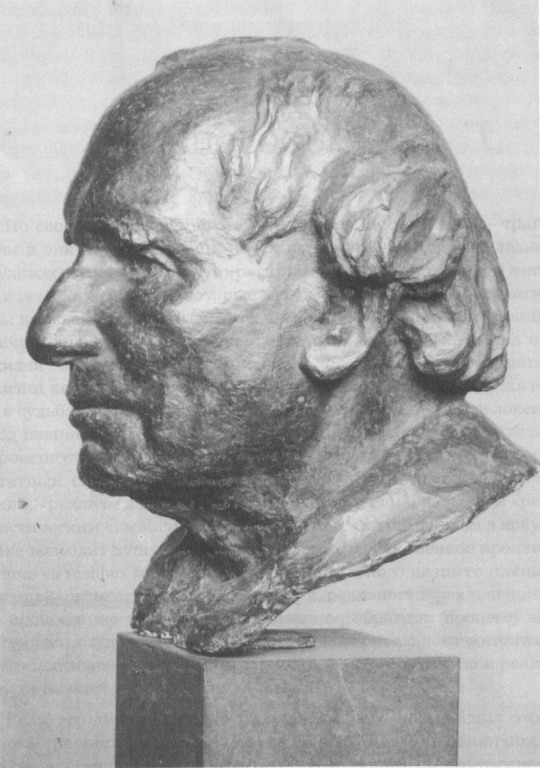
Бюст В.И. работы Вальтера Реслера. 1940-е гг.
По своей внутренней структуре романы Достоевского — трагедии в эпическом одеянии, но их затаенное ядро, их последняя художественная цель, — это раскрытие сверхчувственных, метафизических событий, которые художник не может изобразить и мы не можем восприять иначе, чем в потоке внешних действий и личных переживаний, воплощающих их в жизни человека и в жизни человечества. Из присущего Достоевскому восприятия жизни как драмы, невидимо разыгрывающейся в личной жизни и в судьбах мира между Богом и самым сокровенным я человека, под внешней пеленой нам эмпирически доступного прагматизма происшествий и душевных переживаний, исходит тот имманентный символизм эпоса-трагедии, тот, как говорит Достоевский, «реализм в высшем смысле»,* который мы называем «реалистическим символизмом». Реалистический символизм в искусстве возводит душу воспринимающего художественное произведение «a realibus ad realiora», от действительного низшего плана и низшей онтологической сущности к реальности реальнейшей. В процессе же творчества, в движении, обратном процессу восприятия, художник нисходит от предварительного интуитивного постижения высшей реальности к ее воплощению в реальности низшей — a realioribus ad realia.
Если это так, необходимо для целостного постижения этого эпоса-трагедии раскрыть затаенную в глубинах его наличность некоего — эпического по форме, трагического по внутреннему антиномизму — ядра, в коем изначально сосредоточена вся символическая энергия целого и весь его «высший реализм», то есть интуиция сверхчувственной реальности и происшедшего в ней события, определившего эпическую ткань действия в чувственном мире. Такому ядру символического изображения жизни приличествует наименование мифа.
Миф определяем мы как синтетическое суждение, где подлежашему-символу придан глагольный предикат. В древнейшей
истории религий таков тип пра-мифа, словесного выражения основного представления, обусловившего также и первоначальные формы обряда. Ибо обряд должен отобразить и магически усилить действие, выраженное в предикате, или же отвратить его путем магического противодействия. Из обряда лишь впоследствии расцветает роскошная мифологема, обычно этиологическая, т.е. имеющая целью осмыслить уже данную культовую наличность. Примеры пра-мифа: «солнце-рождается»; «солнце — умирает»; «бог — входит в человека»; «небо — оплодотворяет дождем супругу-Землю». И разве вплоть до наших дней не составляют синтетические суждения содержание каждого поэтического сообщения? Ибо все суждения на языке поэзии синтетичны, и потому столь очаровательно свежи и наивны, столь неожиданны, столь исполнены внутренней, непосредственной жизни, раскрытие которой поражает нас в самых знакомых нам проявлениях.
Если символ, то есть любой предмет чисто поэтического созерцания, обогащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и движение; неосознанный символизм, присущий всякой подлинной поэзии, превращается в некотором смысле в мифотворчество.**
Подлинно реалистический символизм, основанный на интуиции высшей реальности, обретает этот принцип жизни и движения (глагол мифа) в самой интуиции, как постижение динамического начала умопостигаемой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что тоже, как созерцание ее мировой действенности и ее мирового действия.
Чем живее в поэте чувство «realiora in realibus», чувство пафоса, звучащего в словах Гете: «Все преходящее только подобие», тем естественнее соприкасается и согласуется оно с рождающимися в воображении пра-образами бытийного мышления еще живущего в темной памяти древнего мифа.**
И обратно — чем глубже укоренена поэтическая идея в родимой земле мифа, тем значительнее и внутренно правдивее предстает она перед нами, еще не утратившими чувства ее магнетической силы, и слова Гете «Истинное уже давно найдено» сохраняют свое полное значение и в отношении истины поэтической.
Кажется, что именно миф в выше определенном смысле имеет в виду Достоевский, когда по поводу своей работы над «Бесами» говорит о «художественной идее», обретаемой «поэтическим порывом» и о трудности ее охвата средствами поэтической изобразительности.**
Что «идея» есть по преимуществу прозрение в сверхреальное действие, скрытое под зыбью внешних событий и единственно их осмысливающее, видим из заявлений Достоевского о его quasi — «идеализме», он же для него, как мы уже видели, «реализм в высшем смысле».
«Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии, да разве не закричат реалисты, что это фантазия! между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает... Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось».**
Итак, внутренний смысл случающегося улавливает тот, кто различает под его движением сокровенный ход иных, чисто реальных событий. Для этого требуется особое проникновение в сущность сверхиндивидуальных воль и в их отношение к воле отдельной личности. Действующие лица внутренней, реальной драмы — люди, но не как личности, эмпирически выявленные в действии внешнем, но, в первую очередь, как носители соборной воли, которая осуществляется в их действии. Это действие соопределяет их и ими определяется. В историческом плане они предстают перед нами и как отдельные существа, и как органы некоей собирательной души, даже если они лишь очень смутно сознают, — или не сознают вообще, — свою конкретную связь с сверхличным — и все же на свой лад личным — целым, к сфере которого они принадлежат. Как возможна эта связь, каковы носители, какова сущность соборной воли?
Личность для Достоевского — антиномична. С одной стороны,
она в своем внутреннем составе едина; сколь ни была бы она противоречива, сложна и разорвана, она должна в конце концов отчетливо самоопределиться и сама осуществить свою судьбу. С другой стороны, личность тем не менее не есть в самой себе заключенная сущность. И ее единство ей дано тем, что некое высшее единство осуществляет себя в ней особым, неповторимым путем — и именно из своей слитности с ней черпает личность силы, нужные ей для индивидуального бытия. Священны узы, соединяющие личность с ее целым и приобщающие ее к истинному бытию: ибо истинному бытию присуще открывать себя, как единство в многоликости. И наоборот, — губительна попытка отдельного человека самовольно отколоться от своего целого, укорененного в законах бытия; кара ее — демоническая отъединенность. Таким образом, личность одновременно и отделена от других личностей, и со всеми ими непостижимо слита; ее границы неопределимы и таинственны.
«Попробуйте разделиться, попробуйте определить, где кончается ваша личность и начнется другая? Определите это наукой? Наука именно за это берется. Социализм именно опирается на науку. В христианстве и вопрос немыслим этот. (Картина христианского разрешения). Где шансы того и другого решения? Повеет дух новый, внезапный...»**
Достоевский явно чувствует, что дух христианства не допускает нашего отрицательного определения личности («я» и «не-я», «мое» и «не-мое»), и требует, чтобы она самоопределялась положительно. Но речь здесь идет не о душевном трансценсусе, который превращает отрицательное самовосприятие в положительное: для нас важна здесь онтологическая основа. В «наследии Зосимы» указано, что человечество еще не изжило «периода одиночества», и именно в наши дни особенно грозно проявляет себя опасность одиночества, которое есть в своем роде «самоубийство»; когда же наступит конец этого периода, все вдруг осознают и отвергнут «противоестественность» их теперешней отъединенности; все будут поражены, как они могли так долго жить во мраке, не подозревая о свете, и тогда «явится на небе знак Сына Человеческого», то есть, тайна Христа раскроется перед глазами всех людей. **
Перед писателем вспыхивает неизреченное откровение: каждый человек есть все человечество, и все человечество — единый человек, единый Адам.
Если личность возможна только в связи с бытием, если лишь причастность ее к высшему личному единству составляет онтологическую основу каждого отдельного существа, способную стать спасительной преградой перед абсолютной индивидуацией, — то мы в праве заключить о существовании, между обеими сферами, — все-человека и человеческого индивидуума — ряда ступеней, синкретических единств, которые относятся к целому, как семь «Церквей», «светочей» или «Ангелов» Иоаннова Откровения к единой Церкви Божией. С другой стороны, сила, борющаяся против божественного всеединства, толкающая человека к духовному самоубийству, к отъединенности, ищет объять души, в некоей мнимой совокупности — по прообразу страшной Вавилонской башни — не достигающей однако до истинного внутреннего единства и стоящей под знаком бесовского «Легиона»; о нем скажем позже.
Неудивительно далее, что народ, в глазах Достоевского, — личность, не мысленно* синтетическая, но существенно самостоятельная, жизненно целостная: есть в ней периферия многоликости, есть внутренняя святыня единого и всеобщего сознания, единой и всеобщей воли. Нужно обратиться к Библии, чтобы конкретно осознать это понятие, ведь вся библейская историософия и эсхатология зиждятся на представлении о народах как о личностях и ангелов. **
В метафизическом единстве народа различимы два начала: женственное, — душевное, совершительное, — и мужественное, духовное, зачинательное.* Первое вырастает из общей Матери — живой Земли (Мировой Души), взятой как мистическая реальность; второе приблизительно соответствует в личности народа Платонову ἡγεμονιϰόν, a на языке Откровения могло бы быть названо народом-ангелом. Свободное и интеллигибельное самоопределение за или против Бога, составляет, как мы видели раньше, ядро личной трагедии каждого человека, и есть подлинное дело духа народа в ему присущей сфере; он делает свой выбор за весь народ, решает его историческую судьбу; только не нужно при этом забывать, что его решение является имманентным актом воли самого народа. Он может самоутвердиться в себе, замыкаясь от божественного Логоса, но он может и отречься от своего эгоистического я и нести земле, через
избранных к тому людей, весть о своей богоносной воле; и только богоносность народного я делает его всечеловеческим. Но может, в историческом процессе, произойти и третье, некое отчуждение ангела-народа, некое временное колебание или изнеможение мужественного начала: и это состояние сразу используют силы Зла, ищущие создать душу-легион, совокупную душу богомятежных людей, отвоевать себе духовное господство над народом, пленить душу его и принудить к слепому безумству.
О русском народе Достоевский веровал, что он — «народ-богоносец». Очевидно, богоносный народ не есть народ эмпирический, хотя эмпирический народ и составляет его земное тело; богоносный народ не есть, по существу, ни этнографическое, ни политическое понятие, но один из светильников в многосвечнике мистической Церкви, горящий перед «Престолом Слова». Национальное и государственное начала обретают свой смысл и освящение лишь как сосуды богоносного духа. Покровы этого духа могут казаться и быть греховными, недужными, разлагающимися; но ведь Дух дышит, где хочет. Народ-богоносец — живой светильник Церкви, и некий ангел; но пока не кончилась всемирная история, ангел волен в путях своих, и если колеблется в верности, над ним тяготеет апокалиптическая угроза: «Сдвину светильник твой с места, извергну тебя из уст Моих». Поэтому о России ничего достоверно нельзя знать, «в Россию можно только верить», как сказал близкий к Достоевскому в этом круге представлений Тютчев. И сам Достоевский в Россию просто верил, и верил, в духе христианской Надежды, в грядущее благодатное спасение, которое представлялось ему как царство Христа на Руси, и говорил: «Буди, буди!» **
Достоевский, приближающийся к идее богоносной соборности в «Преступлении и Наказании», к идее Вечной Женственности в «Идиоте» (как уже и раньше в повести «Хозяйка»), анализом причин одержания России духами безбожия и своеволия был подвигнут к положительным прозрениям в таинственное соотношение этих сущностей. И когда эти прозрения с яркостью вспыхнули, дотоле казавшийся неудачно задуманным и мертворожденным роман внезапно озарился ослепительным светом; в «поэтическом порыве» поэт принялся перестраивать начатую постройку, ища и отчаиваясь выявить и воплотить разоблачившуюся перед ним во всей своей огромности «идею». Он как бы воочию увидел, как бесовский «Легион» вытесняет из сферы воздействия на душу народа и на его внешнюю жизнь мужеское
начало сокровенного народного бытия и как женское его начало, Душа-Земля русская, стенает и томится ожиданием суженого жениха своего, героя Христова, богоносца: пускай безумствует она в пленении и покинутости, но изменника и самозванца под личиной желанного и долгожданного всегда узнает, и обличит его, и проклянет. Миф был найден.
Достоевский хотел показать в «Бесах», как Вечная Женственность в аспекте русской Души страдает от засилья и. насильничества «бесов», искони борющихся в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания. ** Он хотел показать, как обижают бесы, в лице Души русской, самое Богородицу (отсюда символический эпизод поругания почитаемой иконы), хотя до самих невидимых покровов Ее досягнуть не могут (символ нетронутой серебряной ризы на иконе Пречистой в доме убитой Хромоножки). Задумав основать роман на символике соотношений между Душою Земли, человеческим я, дерзающим и зачинательным, и силами Зла, Достоевский естественно должен был оглянуться на уже данное во всемирной поэзии изображение того же по символическому составу мифа — в «Фаусте» Гете (который, впрочем, ставит себе иные цели и не затрагивает идеи искупления).**
Хромоножка заняла место Гретхен, которая, по разоблачениям второй части трагедии, тожественна, как образ Вечной Женственности, и с Еленою, и с Матерью-Землей; Николай Ставрогин — отрицательный русский Фауст, — отрицательный потому, что в нем угасла любовь и с нею угасло то неустанное, эротическое в платоновом смысле, стремление, которое спасает Фауста; роль Мефистофеля играет Петр Верховенский, во все важные мгновения возникающий за Ставрогиным с ужимками своего прототипа. Отношение между Гретхен и Mater Gloriosa — то же, что отношение между Хромоножкою и Богоматерью. Ужас Хромоножки при появлении Ставрогина в ее комнате предначертан в сцене безумия Маргариты в тюрьме. Ее грезы о ребенке почти те же, что бредовые воспоминания гетевской Гретхен. Вышеприведенная песенка Хромоножки — песня русской Души, таинственный символ ее сокровенного келейничества. Она молится о возлюбленном, чтобы он пребыл верен — не столько ей самой, сколько своему богоносному назначению, и терпеливо
ждет его, тоскуя и спасаясь — ради его спасения. У Гете Гретхен песнею о старом короле, когда-то славном на крайнем Западе, в ultima Thule, и о его солнечном кубке, также обращает к отсутствующему возлюбленному чаровательное* напоминание о верности и об ожидаемом его возврате к ней новым Солнцем. *
Та, кто поет песню о келейничестве любви, не просто «медиум» Матери-Земли (эллинские систематики экстазов и исступлений сказали бы: «от Земли одержимая», ϰάτοχος ἐϰ τῆς Γῆς), но и символ ее; она представляет в мифе Душу Земли в специальном аспекте Земли русской. Поэтому у нее зеркальце в руке: Душа Мира созерцает себя непрестанно в природе. И недаром она — без достаточных прагматических оснований — законная жена протагониста трагедии, Николая Ставрогина. И недаром также она вместе и не жена ему, но остается девственною: «Князь мира cero» господствует над Душою Мира, но не может реально овладеть ею, — как не муж Самарянки четвертого Евангелия тот, кого она имеет шестым мужем. Ставрогина же ясновидящая, оправившись от первого ужаса, упрямо величает «князем», противополагая ему в то же время подлинного «его».
«Виновата я, должно быть, перед ним в чем-нибудь очень большом, — вот не знаю только, в чем виновата, вся в этом беда моя ввек... Молюсь я, бывало, молюсь, и все думаю про вину мою великую перед ним».
Этот другой, светлый князь герой-богоносец, в лице которого ждет юродивая во Христе духовидица самого Князя Славы. И уже хромота знаменует ее тайную богоборческую вину — вину какой-то изначальной нецельности и неверности, или не полной верности, какого-то исконного противления Жениху, ее покинувшему, как Эрос покидает Психею, грешную некиим первородным грехом естества перед божественною Любовью.
«Как, разве вы не князь?.... всего от врагов его ожидала, но такой дерзости никогда! Жив ли он? Убил ты его или нет, признавайся!... Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился?.... Гришка Отрепьев, анафема!» «Сова слепая», «сыч» и «плохой актер», «Гришка Отрепьев», «проклятый на семи соборах», христопродавец и сам дьявол, подменивший собою (загубивший, быть может, во всяком случае, как-то предавший) «сокола ясного», который «где-то там, за горами, живет и летает, на солнце взирает», — вот «дурной сон», приснившийся Хромоножке перед приходом Ставрогина и вторично
переживаемый ею в бреду пророческом — уже наяву. С тем же ясновидением узнает Гретхен сразу сущность Мефистофеля и мефистофельский дух, удаляющий ее от любимого.
Но кто же Николай Ставрогин? Поэт определенно указывает на его высокое призвание; недаром он носитель крестного имени (σταυρός — крест). Ему таинственно предложено было некое царственное помазание. Он — Иван Царевич; все, к нему приближающиеся, испытывают его необычайное, нечеловеческое обаяние. На него была излита благодать мистического постижения последних тайн о Душе народной и ее ожиданиях богоносца. Он посвящает Шатова и Кириллова в начальные мистерии русского мессианизма. Он сеет в их души глубокое чувство Христа — и глубочайшее сомнение в существовании Бога. Но сам, в какое-то решительное мгновение своего скрытого от нас и ужасного прошлого, изменяет даруемой ему святыне. После потери веры в Бога он явно предается сатанизму, беседует в галлюцинациях с Сатаной. Он становится безвозмездным вассалом его, а не должником, как Фауст. Он отдает ему свою жизнь, обещанную Христу, и присужден нести в себе свою пустоту до предварения, еще при жизни, «смерти второй», до конечного уничтожения личности в живом теле. Духовно он уже давно умер, и что осталось от него — лишь очаровывающая прекрасная личина.
Он нужен злым силам своею личиною — нужен как сосуд их воли и проявитель их действия; своей же воли уже вовсе не имеет. Изменник перед Христом, он не верен и Сатане. Ему должен он предоставить себя, как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтобы сыграть роль лже-Царевича, который бросит в народные массы пламя восстания — и не находит на то в себе воли. Он изменяет революции, изменяет и России (символы: переход в чужеземное подданство и, в особенности, отречение от своей жены, Хромоножки). Всем и всему изменяет он, и вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье. Но измена Сатане не лишает его страдательной роли восприимчивого проводника и носителя сатанинской силы (Марк, V, 9), которая овладевает вокруг него и через него стадом одержимых. ** Они — стадо, потому что изо всех них как бы вынуто я: парализовано в них живое я и заменено чуждою волей.
Лишь двое людей, отмеченных Ставрогиным, своего я не отдали и от стада отделились: это — Кириллов и Шатов. Как же распорядились они своим я? И не удалось ли одареннейшим из учеников Ставрогина, как ученику Фауста, изобрести некоего гомункулуса?
Кириллов, в замкнутости своего личного, почти солипсического отъединения, все чай пьет по ночам и размышляет о своем дерзновении; он утверждает, в пустынной гордыне, как «отшельник духа» у Ницше, свою своевольную свободу — не столько свою внешнюю, правда ревниво оберегаемую, независимость, сколько свою чаемую метафизическую самостоятельность, превращающую его в богоборца; но на него падает тихое мерцание лампадки перед ликом Христа, которого то он все-таки знает и любит. Для Кириллова нет никакой сверхчеловеческой реальности за человеческим представлением о Боге; и поэтому ему кажется логически неизбежным, что сам человек станет Богом. Иисус ведь не стал бы Богом не уверовав в небесного Отца. Но человек может стать Богом только когда он превзойдет «боль страха смерти», коему он дает имя Бога. Чтобы явственно и торжественно запечатлеть эту победу, нужно совершить единственный возможный акт безусловного ослушания: убить себя, убить извне, без нужды, без насилия, своевольно и с полным приятием жизни. На пустой, человеческим страхом воздвигнутый Божий трон должен сесть человек: так думает атеист-мистик, который предвещает своим безумием — тайную мечту нового Иксиона — Ницше. Один Христос смерти не убоялся, не убоится и Кириллов. Для этого надлежит ему взойти на одинокую Голгофу своевольного дерзновения, убить самого себя, ради себя же... И обезумев в пустынной гордыне духа своего, он совершает свою антихристову, свою анти-голгофскую жертву — богочеловек наизнанку — «человекобог», захотевший сохранить свою личность и ее погубивший, чующий сыновство, но мнящий воздвигнуть его на отрицании отчества.
Страшной гибелью Богом болеющего мыслителя Достоевский хотел показать, что атеизм в личности, пробудившейся к онтологическому самопознанию, преломляется в метафизическое безумие. Если убедит себя духовно значительный человек, коим был Кириллов, что «должен веровать, что не верит в Бога» (тут
припоминаются автору, вероятно, тогда часто обсуждаемые утверждения Бакунина о несовместимости веры в Бога с человеческой свободой), он чувствует себя неизбежно влекомым в то же время к самообожествлению и саморазрушению. Кириллов не эгоист; он благороден, сострадателен, он рад помочь; он все живущее воспринимает с ласковым сочувствием, он славит прекрасную и противоречивую жизнь с гераклитовым восторгом; у него бывают минуты несказанного блаженства в экстатическом созерцании вселенской гармонии. Лишь ужас перед смертью «старый Бог» — отравляет, по его мнению, человеческую жизнь и превращает людей в рабов: Кириллов клянется совершить задуманный им освободительный подвиг — убить старого Бога — убиением самого себя и делит мировую историю на две эпохи: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до полного, «даже физически» явственного превращения человека в «человекобога» — так подобает изменить обманчивый символ «богочеловек». К стаду одержимых угрюмый мечтатель явно не принадлежит, и не нужен он стаду, которое требует зачинщиков иного рода — Петра Верховенского, например, или Шигалева, который, чтобы укрепить всеобщее благополучие на начале всеобщего равенства, готов вырвать все корни высшей духовности и приказывает срубить голову всем, кто возвышается над толпой. Но он все же одержим — страшная болезнь его это изначальная ненависть к Богу, в которой Достоевский видит глубочайшую причину описываемого им бесовского натиска.
Шатов также не отдал своего я «Легиону» ; он даже восстал против бесов, за что был ими растерзан. Однако и в нем продолжает действовать заразительный яд. В лучшем случае он только выздоравливающий. На вопрос, верует ли, собственно говоря, он в Бога, хоть и разговаривает постоянно о народе-богоносце, он смущенно лепечет: «Хочу, буду верить». Свое я он хочет излить в я народное, а народное я провозгласить я Христовым. От одержимого стада он отшатнулся, но в вере народной пошатнулся. Ложь его отношения ко Христу в том, что он не мог через Него увидеть Отца. Вот он надумал, — злоупотребив, как его мистагог, светлыми откровениями, почерпнутыми из отравленного колодца ставрогинской души, — что русский «Христос» — сам народ, долженствующий воплотить в своем грядущем Мессии духовное и мужеское свое начало, чтобы провозгласить, устами этого Мессии-самозванца: «я есмь жених». Мистик Шатов, поистине, не божество делает аттрибутом народа, в чем его
упрекают, но народ возводит до Божества, как говорит сам. Пощечина его Ставрогину, — черта необходимая: еретик казнит предательство своего ересиарха, за то что Ставрогин «Христом» русским стать не захотел, и веру Шатова обманул, и жизнь его разбил. Тем не менее, заслуга этого шатуна в том, что от одержимого стада он все же отшатнулся и в Душу Земли все же поверил: оттого и дружна с ним юродивая Марья Тимофеевна. «Шатушка» озарен, — через любовь к истинному Христу, пусть неправую и темную, но бессознательно коренящуюся в его народной стихии, — скользнувшим по нему отблеском некоей благости; он выступает великодушным, всепрощающим защитником и опекуном женской Души, в ее грехе и уничижении (что особенно видно в его отношении к своей жене) и умирает мученической смертью. Рано, еще с тюремных лет, Достоевский начал размышлять о духовной миссии русского народа; позже он говорит о «самостоятельной русской идее», которую Россия должна родить в «ужасных страданиях», и о ее уже начинающихся «болях». К этим чаяниям относится загадка, загаданная пророчественным творением Достоевского: что означает в плане духовном сокровенная мечта Земли русской об искуплении и об искупителе? Как возможен приход суженого ей в ее богоносных снах героя во Христе, Ивана Царевича, спасителя, которого она, сама спасение ждущая, должна родить? Другими словами: как может страна «мудрой воли и диких дел», которая с древних лет зовет себя святой и знает тяжкое проклятие свое, стать «Русью святой» воистину? Как может народ стать церковью? Как невозможное для людей возможным становится для Бога? Достоевский начинает мечтать о таинственном посланнике духоносного старца Зосимы, одном из уже в «Преступлении и Наказании» обещанных «чистых и избранных», о зачинателе «нового рода людей и новой жизни».
Мотив Психеи, угнетенной силами Зла и ждущей Освободителя, занимал Достоевского и до работы над «Бесами». Но для него это никогда не было просто поэтическим мотивом: пишет ведь уже Апостол Павел (Рим. VIII, 19-25): «Вся тварь ожидает стеная освобождения чрез сынов Божиих». К тому же
намеченная проблема имела, в глазах Достоевского, непосредственное и прямое отношение к судьбам России. В надежде найти путь к художественному разрешению проблемы, он набрасывает план «Идиота»; но при осуществлении широко задуманного замысла появились новые идеи, непредвиденные соотношения; однако первая попытка не удовлетворила его, потому что ответ на поставленный в новом романе вопрос о возможности богоносного героя оказался в конце концов отрицательным.
Только в «Братьях Карамазовых» находит Достоевский ответ: миссия русского инока, покидающего монастырь по приказу своих духовных учителей и действующего в миру; инок этот Алеша, который слышит это призвание и его исполняет. Но это столь значительное произведение осталось неоконченным и последнее торжественное слово автора невысказанным. Важно, однако, что благодатная близость Алеши и чудо, втайне совершенное его учителем Зосимой, приносит хромой невесте выздоровление, тогда как Хромоножка в «Бесах» гибнет: Психея наконец нашла своего спасителя.
Все же в романе, к которому Достоевский молитвенно готовился, преобладают аллегория и поучение, а не миф. Исторической аллегорией являются главные моменты действия: непримиримая борьба между отцом, представляющим раньше господствующие, но уже приговоренные к гибели и нравственно испорченные сословия, и его старшими сыновьями; отцеубийство, совершенное социальным парией среди сыновей, но подсказанное и тайно организованное ученым сыном теоретиком-зачинателем восстания; мнимая вина и реальное искупление старшего брата, воплощающего в себе светлые и темные черты народа; и наконец, лишь после насильственного удаления старого Зла, зачинающаяся и вначале еле ощущаемая целительная сила избранных в новом поколении. Религиозная истина, с другой стороны, звучит в последнем произведении Достоевского непосредственно и выявляется в ее почти что чудотворном действии на жизнь: ее белый свет сквозящий через прозрачные пелены, сияет перед нами не преломляясь в посредствующей сфере образов и мифа. Такая перемена художественной манеры существенно отделяет последний период творчества Достоевского от эпохи «Бесов» и «Идиота», где главную роль играют элементы мифа, о которых сейчас пойдет речь.
Признав в мифологеме «художественную идею» «Бесов» (по терминологии Достоевского) постараемся применить и к
«Идиоту» тот же метод изучения. И сначала обратим внимание на основное произведение, образующее как бы предварительную ступень к идейному составу «Идиота». Размышляя о герое «Преступления и Наказания» Достоевский уже чувствует внутреннее побуждение изобразить настоящее величие человека кроткого, человека доброй воли в христианском смысле слова; указывая на возможность и действенность позитивного героя в нашей жизни, он хочет крикнуть современникам: «вы должны надеяться».
Отщепенец от духовно-душевного единства человечества, отказавшийся, отколовшийся от него и тем самым от МатериЗемли и сам в себе внутренне расколовшийся, человек рассудка и убийца Раскольников, спасенный самоотверженной смиренной женской душой, и с другой стороны, мученик веры в человечество как духовное единство, святой «идиот» Мышкин, любящий Землю более чем предначальную свою память о запредельной родине, пришедший спасти лежащую в узах, оскверненную женскую душу — вот два полюса одного художественного замысла. Люциферическому самоутверждению личности, ищущей скупо сохранить и жадно умножить свое богатство, противополагается великодушная самоотверженность души, не побоявшейся, по евангельскому завету, расточить самое себя. Там отчуждение и раскол, здесь связь с Землей** и единение с людьми; там мечта выйти из бедности и жажда власти и славы здесь отречение и обнищание (ϰένωσις), мощь богатства духовного, слишком роскошно расцветшего в своей благодати; там медленное восхождение к свету — здесь внезапное падение в тьму, подобно полету отколовшегося метеора в безрассветную бездну. Так же противоположны и мотивы мифов в обоих антитетических романах. Перед тем как обратиться к «Идиоту», взглянем на миф, лежащий в основе «Преступления и Наказания».
Действие «Преступления и Наказания» происходит в Петербурге. Поэт не мог бы найти более подходящего сценического пространства для трагедии иллюзорного самовозвеличения и бунта одного против всех, человека против неба и земли. Нет другого города, где genius loci мог бы породить такую страшную лихорадку души, такие фантастические и в то же время отвлеченные мороки и мечтания. И не кажется ли бесплотным,
вымышленным сам Петербург, как замечает в «Подростке» Достоевский, город, искусственно вычарованный из северных болот вопреки всем стихиям? Не относится ли он к сущности России как мираж и морок к действительности, как ложная личина к истинному лику? Петербургский период русской истории не эпоха ли глубочайшего раскола между бытием и видимостью, эпоха сознания мнимого и иллюзорного — ибо не укорененного в народе — умертвляющего чувства живой реальности Бога и вселенной, рождающееся в человеке из органической связи с Матерью-Землей?
Так приблизительно думали и славянофилы, — в этом они согласны с Достоевским, — и на этом они успокаивались: они не воспринимали эти противоречия русского духа. А Достоевский узнавал их во всей их диалектической необходимости. Он любил, как Пушкин, неуютное творение мощного чародея, Петра Великого, во всей его таинственной и опасной многоликости. Змий должен корчиться под копытом Медного Всадника на Сенатской площади (революция — логический коррелят Петрова дела, и анархист Раскольников явно принадлежит змеиному севу Революции) — но как бы мог без империи русский дух расцвести в своей вселенской, духовной мощи? Таковы были мысли Пушкина при создании «Медного Всадника»; Достоевский слепо верил своему учителю.
На зависимость романа от петербургской повести Пушкина «Пиковая Дама» исследователи словесности уже указывали. Сам Достоевский подчеркивает ее глубокое значение; в характере героя сосредоточен, по его мнению, дух всего петербургского периода. Во многом, несомненно, оба произведения похожи; но дело идет не о простом подражании или переработке литературного мотива. Аналогия зиждется на тождестве прообраза основного мифа; оба рассказа как бы варианты того же мифа.
Пушкинский молодой офицер, инженер Герман, безродный и бедный, плебей и parvenu среди высокородных и богатых друзей, и голодный гений студент Раскольников принадлежат существенно одному роду, хоть Герман — человек всецело эгоистический и любви не знающий, а Раскольников любит мать и сестру, пытающихся своей неясной, робкой любовью помочь ему; он чувствует себя глубоко обиженным больше за них, чем за себя. У обоих та же социальная зависть, то же личное честолюбие, та же в себе замкнутая, непроницаемая душа, превращающая все жизненные опыты в отвлеченные схемы, то же железное
господство моноидеистической сосредоточенной воли над страстной природой, то же почти патологическое соединение необузданной мечтательности и холодного расчета, тот же моральный скептицизм, тот же бессознательный магический натиск и стремление подчинить действительность собственному замыслу — пугая людей вокруг себя чем-то страшным и демоническим. У Германа, так считают его товарищи, несмотря на его скромную, суровую, строго размеренную жизнь, на совести «по крайней мере три преступления» — и все снова и снова поражаются его вдруг выявляющимся сходством с Наполеоном; мысли Раскольникова притягиваются к Наполеону как к магниту; он восхищается его отвагой и даром легко переходить грань дозволенного и преступного. Судьбы обоих молодых людей так же похожи: оба встречают — и тут выявляется миф — страшную старуху, от которой оба стараются вырвать охраняемые ею сокровища; оба виновны в смерти Парки и должны испытать ее месть. Ибо иссохшая как мумия седая графиня повести, уносящая в могилу магическое средство обогащения, поведанное ей некогда Сен-Жерменом, конечно то же бессмертное существо, которое появляется в романе как отвратительная процентщица.
Какая роковая власть таится под этими странными личинами? Не есть ли эта из тьмы восходящая мстительница одна из сил земли, которые приносят благо или зло, знают о тайне судеб и держат под своим ключем подземные богатства? Не посланница ли она Матери-Земли, гневно восстающей против слишком дерзких притязаний возмечтавшей гордыни, алчной прихоти, против дикого дерзновения насильственно отменить решения вечной Фемиды? В мифическом плане один ответ: это существо хтоническое. И вариант Достоевского это явно показывает. Он описывает бунт человека против Матери-Земли, гнев ее и умирение гнева искуплением ею истребованным и ей принесенным.
Мифический состав «Преступления и Наказания» ярче всего выявляется в простом изложении основной темы романа, которая — без всякого ведома автора, просто следующего народной традиции** — содержит в себе ядро (гипотезу) эсхиловой трагедии; знаменательно поэтому, что легче изложить внутреннее содержание романа, прибегая к художественному языку античного театра, чем к понятиям современной этики: восстание
мятежной гордыни человека (ὕβρις) против исконных святых законов Матери-Земли; роковое безумие (῎Ατη) преступника; гнев Земли за пролитую кровь, обрядовое очищение убийцы целованием Земли перед народом, собравшимся вершить суд над преступником, гонимым Эринниями душевного ужаса (но еще не христиански кающимся); признание правого пути через страдание (πάϑει μάϑος).
В смиренном поцелуе символическая вершина всего действия, как бы осененного невидимым величественным образом Геи. Здесь разрыв и примирение между ней и гордым сыном Земли: он ищет сверхчеловеческого могущества, мнит подняться тем выше, чем более он отчуждается от органического, всеединого, бытийного целого, живящие силы коего он до сих пор впитывал из всепитающей, материнской почвы; грезится ему, что он питается ядовитым плевелом темной пустыни в себе самом сотворенной («пустыня растет, горе тому, кто таит в себе пустыню» — никто иной, как Ницше это сказал!). Герой «Преступления и Наказания» виновен перед Землей и искупляется покаянием перед ней, и терпеливо молчащая, все приемлющая, беря на себя его вину, она как бы утешает и укрепляет выздоравливающего, показывая ему свои безграничные кочевые степи, где еще возможно «воздух пить патриархальный».
Как различна была бы судьба честолюбивого думника, имей он мудрость простоватого Брута римской легенды: услышав от оракула, что summum imperium получит тот, кто первым из присутствующих даст поцелуй своей матери, он припал к земле благочестивыми устами: «Terram osculo contigit scilicet quod еа communis mater omnium mortalium esset» (Liv. I, 56)*.
«Преступление и Наказание» — первое глубокое откровение Достоевского, основа его будущего мировоззрения: откровение мистической вины личности, замкнутой в своем одиночестве и поэтому выпадающей из всечеловеческого единства и сферы действия нравственного закона. Формула отрицательного самоутверждения человека: отъединение. Обособленность Раскольникова вследствие первоначального решения его свободной воли, отколовшейся от вселенского целого, находит в преступлении окончательное выражение. Не преступление ведет к обособленности; наоборот, из последней рождается попытка осознать силу
и автаркию отъединенной личности, попытка, осуществляющаяся в плане внешних событий как преступление.
Никакое символическое действие не кажется Достоевскому достаточно ярким и выразительным, чтобы передать специфическое и по исключительности своей с трудом воспринимаемое состояние души отступника, который, подобно Каину, устраняет от себя Бога и людей и чурается всего живого. Когда Раскольников принял протянутую ему по недоразумению милостыню, а потом бросил серебряную монетку в Неву, он знал, что этим он разрывает последнюю связь свою с людьми. В романе предстоит перед нами не кающийся в убийстве мятежник, а лишь некто, не сумевший выполнить до конца гордый подвиг отъединения, взятый самовольно на себя в безумной надежде доказать этим свое душевное величие.
Автор намеренно подчеркивает двойственный характер действий Раскольникова: с одной стороны все обстоятельства, до самого последнего, складываются так, что каждое из них и все в совокупности, толкают, зовут, нудят его совершить противное ему действие, кем-то ему подсказанное и им самим сразу воспринятое как неотразимое проклятие. Все его сомнения, все попытки сопротивления уничтожаются какими-то случайностями и ведут его неизменно к роковому действию, и вся его жизнь является перед ним как поток, бросающийся неизбежно всей своей тяжелой мощью в близкую, глубокую пропасть. С другой стороны, весь окружающий Раскольникова мир кажется творением его фантазии, и тот, кто ему случайно внушает мысль об убийстве старухи, лишь громко выражает то, что дремлет в нем бессознательно и скрытно. Он сам творит свой мир; он чародей самозамкнутости и может по своему приказу вызывать заколдованный мнимый мир; но он и пленник своего собственного призрака. Выздоровление приходит от Сони; она требует от любимого лишь одного : признание реальности человека и человечества вне себя и торжественное подтверждение этой новой и ему еще чуждой веры покаянием перед всем народом.**
Тут самое важное, чему научил Достоевского внутренний опыт во время ссылки. Когда он после сибирских лет рассказывал, что узнал русский народ через вместе пережитые унижения и обиды и сподобился единения с ним через общее страдание и что в то же время узнал он Евангелие, то это признание приобретает для нас двоякий смысл. Дело идет здесь не только о сближении «беспочвенного интеллигента» вчерашнего дня с типическими
(и даже, по утверждению автора «Записок из Мертвого дома», самыми даровитыми и самыми сильными) представителями русской народной души, с народом в эмпирическом смысле слова — для чего Евангелие собственно говоря не нужно было бы — нет, дело идет о большем: для Достоевского, народ есть всеединое, всечеловеческое, в грехе и унижении принимающее Бога начало, которое противостоит началу отъединенной, богоборческой личности. Все это подтверждает позднейшие размышления Достоевского о сверх-эмпирической сущности народа, в котором всецело укоренена личность, поборовшая свое одиночество и осознавшая себя членом вселенского тела. Христианский народ, духовно устрояемый в Церкви, взятый как органическое душевное единство, совпадает, в некотором смысле, для Достоевского, с Землей как мистической сущностью, и тогда отщепенец и мятежник представляется ему согрешившим не только против Церкви, но и contra naturam.
Весть о спасении через искупительную муку — о самообретении личности в Боге через преодоление своей иллюзорной автаркии — дополняется апофеозом и культом страдания. В страдании человек реально связан со всем человечеством. И на кресте разбойника он переживает таинство соприкосновения со Христом. Сакраментальное значение и, стало быть, оправдание страдания в том, что страдающий, сам того не осознавая, страждет не только за себя, но и за других, что он освящает не только себя через страдание, но спасает, сознательно или бессознательно, также и других. Даже «вошь», как называет ее Раскольников, старуха процентщица, нечто искупляет из общего греха. Но виновен тот безумный, кто мнит себя орудием непостижимой ему справедливости: он не умаляет, он увеличивает страдание мира. Убийство старухи приводит Раскольникова и к нечаянному убийству невинной, простодушной Елизаветы. Спасающая убийцу, научившая его покаянию, кроткая сердцем Соня, ставшая проституткой, чтобы спасти родителей, братьев и сестер от голодной смерти — тоже жертва за чужой грех; в отличие от Елизаветы, она, однако, сама — великая грешница, хоть и для спасения других, она сознательно и самонадеянно принимает не только страдания, но и проклятие чужого злодеяния, беря его на себя. В грешнике, который искупляет грех страданием, — антиномичное скрещение проклятия и освящения — если не погасла в
нем любовь, если он (как Свидригайлов) не стал к любви неспособным: ибо невозможность любви уже ад, как учит Зосима, и кто не способен любить, отъединяется от связи всех в вине и освящении. Подвиг страдания находит достойное выражение в земном поклоне Раскольникова перед Соней, старца Зосимы перед Димитрием. Вот почему русский народ, считает Достоевский, встречает «несчастненького» — так называет он преступника, страдающего от справедливой кары, — с благоговейным состраданием.
Достоевскому ненавистны новые теории о невменяемости преступника за его дела: эти теории отнимают от человека его свободу и благородство, его божественное достоинство. Нет, преступник должен и хочет взять на себя кару за действие, рождающееся из метафизического самоопределения его свободной воли. Несправедливо лишать преступника возвышающей его ответственности и кары, очищающей его и вводящей в новое бытие. Неприемлема лишь смертная казнь, прерывающая насильственно крестный путь его искупления, ибо она столь же богопротивна, сколь и бесчеловечна. И все же, всякое преступление — не только грех преступника, но и общий и общественный грех: никто не имеет право сказать про себя, что он непричастен к вине виновного. Это убеждение Достоевского укоренено в глубочайших и древнейших слоях народной души.
Покаяние Раскольникова перед всем народом напоминает исповедь Эсхилова Ореста, а отношение Достоевского к проблеме неответственности близко к восприятию вины Эдипа в Софокловой трагедии. Эдип, единогласно оправданный судом новейших исследователей этого таинственного и еще до конца не разгаданного произведения древности, сам себя, однако, осуждает. Почему? Он стоит перед дилеммой: счесть себя игралищем, слепым орудием судьбы и потому, так как он ни свободен, ни ответственен, увериться в своей невиновности, или же, какие бы не грозили последствия, как бы не противоречило это внешним обстоятельствам, утверждать свою свободу и свою ответственность и тем самым себя осудить. Есть несравнимое нравственное величие в том, что разгадавший загадку Сфинкса и словом «человек» снявший его чары, — преступник против своей воли и знания, сам себя осуждает во имя человека. Это разуму непостижимое решение задачи, заданной разуму непостижимыми сущностями, ведующими судьбой людей (по фаталистической концепции Софокла — не Эсхила, у которого есть прямой ответ на
вопрос о падшем на Эдипа проклятии) превращает нищего слепца, решившего во имя всего человечества положительно вопрос о божественной его природе, в богоравное существо и истинного друга Эвменид.
Для Достоевского преступник не Эдип, но все же он остается в конце концов ветхозаветным козлом отпущения, принимающим грехи народа, ϕαρμακός древних греков. Воля многих, устремленная на истребление гадкой старушонки, находит точку опоры в свободном согласии недужной, потому что восставшей против неба и земли, воли Раскольникова. В «Братьях Карамазовых» подчеркивает Достоевский с мефистофельской проницательностью, жители города, взволнованные убийством старого Карамазова, тайно желают, чтобы именно его сын оказался убийцей. Эти намеки помогают нам открыть темный смысл страшного сна, приснившегося Раскольникову, и понять его значение в общем строе романа. Раскольникову снится маленькая тощая «клячонка», которую до смерти избивает глумящаяся дикая пьяная толпа. Кто виноват в этой неистовой жестокости? Конечно, не один освирепелый хозяин несчастной клячи, который куражится и потешает народ, но и каждый из тех, кто в мятежном безумстве множит невыносимую для лошади ношу. Кто в романе похож на темную жертву? Только ли Соня? Нет, также ее отец и мачеха — и Елизавета. И не только они: также и убитая старуха, и прежде всего сам убийца, который был присужден — или сам себя присудил — к осуществлению того, что по воле всех должно было совершиться. Уже в «Преступлении и Наказании» Достоевский, к своему ужасу, открыл истину, которую он позже выразит в догматической форме, — истину о вине всех за всех и за все. Это страшное познание открывает перед ним новую бездну, ужасающую и ослепляющую: он начинает постигать, что все человечество — Один Человек. «Да будут все едино» (Ин. 17,21).
В «Преступлении и Наказании» Достоевский указал главное мерило для различения пути добра (то есть пути практического признания в Боге основанного всечеловеческого единства как духовной реальности) и пути зла (то есть, пути внутреннего
одиночества, призрачного своеволья и богоубийства); в своих позднейших произведениях, он расширяет и углубляет это основное понятие, освещает его на примере различных героев, мировоззрений, судеб, предопределенных этой первоначальной дихотомией.
В то же время ему представляется новая неотложная работа: сотворить или по крайней мере набросать образ положительного героя в вышеуказанном смысле — человека, осуществляющего в жизни — несмотря на закон жизни, разделяющий и отъединяющий людей — начало соборности и единства. Ища в мировой литературе прообраз человека доброй воли, Достоевский останавливается с особенной любовью на бессмертном произведении Сервантеса.
И впрямь, позитивный тип, которого он ищет, должен был бы или нести черты совершенной, человеческие границы сверхъестественным образом превышающей святости (но это было бы предметом мистерии, а не реалистической драмы жизни), или же — в силу своего несочетания и как бы несоизмеримости с окружающим его человечеством, несмотря на общий, жизненный закон — стать трагикомической фигурой. Вот первый импульс к созданию «Идиота»: с точки зрения литературной генеалогии, Дон-Кихот, несомненно, один из предков князя Мышкина.
И тогда выявляется общая обоим произведениям черта: их платонизм и их платонов эрос. Дон-Кихот прежде всего влюбленный почитатель духовно реальной, но в мире эмпирическом прячущейся под недостойной личиной, грубой телесности, «злыми силами заколдованной», женской «нежной» красоты — Дульсинеи. Мистическую сущность Дульсинеи он узнал на пути внутреннего откровения, — как пушкинский «Бедный Рыцарь» узнал Богоматерь.
Жил на свете рыцарь бедный
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал,
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
A.M.D. своею кровью
Начертал он на щите.
И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Именуя громко дам, —
Lumen coeli, sancta Rosa!
Восклицал он дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.
Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он, строго заключен;
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он. *
Не случайно указывает Достоевский наряду с Дон-Кихотом, на чудного рыцаря этой баллады, освещающей глубины души средневековья; вот лейтмотивы мышкинского платонизма, как его воспринимает, по крайней мере, Аглая, которая влюблена в князя и из ревности делает его предметом своих насмешек.
Но Мышкин, однако, не Дон-Кихот и не Бедный Рыцарь. Достоевский не останавливается на этих литературных прообразах при сотворении своего героя, положительного, но в глазах людей неизбежно смешного, даже юродивого, ведомый поэтической интуицией он исследует последние глубины этого в своем герое воплощенного типа и — как это обыкновенно происходит при рождении больших поэтических созданий, — находит родную
почву — сила которой никогда не отказана самобытному и подлинному творцу — в темной памяти древнего мифа. Чудак, которого он описывает, не похож на всех других, он как бы нисходит к ним с неких высот, о которых он ясно и не помнит; он в простодушном откровении своего внутреннего закона человеческим законам не соразмерен; он несет кротко и радостно печать своего высокого помазания; не узнанный людьми, он говорит с ними просто и доверчиво, как если бы и они были помазанниками, как он, бесконечно близкий к чему-то в их душе горячо желанному и забытому; и все же он остается им чужд, несмотря на исходящую из него благотворную, чудесную силу. Этого чудака, этого чужеземца народная память больше не узнает как нисходящего светлого бога, но увидит в нем героя, то есть богоподобного человека, которому суждено страдать и умереть. Князь Мышкин, который «даже совсем женщин не знает», более не Парсифаль изначальной кельтской легенды, а юродивый позднейшей средневековой саги. Но он же Иван-Царевич старой русской народной сказки; Иван-Царевич — простодушный дурачок среди людей, бессознательно знающий и чующий, ведун и чудотворец, друг зверей, читающий в душе природы как в открытой книге. Жизнь его протекает сомнамбулически и сам он как бы пребывает в дреме (вспомним сцену встречи Аглаи с Мышкиным, где Аглая находит своего возлюбленного заснувшим на садовой скамье), судьба приводит Царевича к предназначенному для него трону и в свете сверхчеловеческой славы смерть внезапно настигает и уносит его.
Князь Мышкин прежде всего герой нисходящий, обладающий духовностью, к земле обращенной, — более дух воплотившийся, чем к духовному восходящий человек. Вся его слава позади, в его прошедшем: и слава его исторического рода, и то сверхчувственное, неземное, гармоничное блаженство, то созерцание самой красоты, коей безо̀бразное воспоминание «вечно стоит в его сердце», как у поэта Голубого Цветка. Это преобладание Платонова анамнезиса над чувством действительности делает его среди людей и глупцом и мудрым провидцем. Бывают минуты, когда анамнезис в нем вспыхивает и потрясает его будто раздирая завесы, отделяющие внешний мир от того другого, былого; и он ослепляет, волнует, сжигает душу как неожиданно явленное величие Зевса сжигает Семелу — и оставляет в душе на миг
чувство несказанного блаженства и освобождения: это минуты, когда Мышкин падает в припадке эпилепсии. Столь сильна в нем эта первоначальная память, что до двадцати четырех лет он не смог обжиться в нашем мире и до сих пор ведет себя в нем как «идиот».
Перед нами душа, упавшая из того «наднебесного удела» Платона (ἐπουράνιος τόπος), где нерожденные созерцают с богами формы вечной красоты. Но почему свершилось это падение на землю? Не из страстного ли стремления к Земле и к воплощению в земной плоти? Мышкин влюблен в землю и видит в ней то, что он созерцал в надмирных полях: он видит ее так, как она вечно есть в Боге. От этого — его постоянное переживание рая, непосредственное созерцание природы в той предначальной чистоте, которую она хранит в своей вечной сущности и в своих святых глубинах. Но все же Мышкин видит, как тени страдания падают на светлый облик природы. Узнавая на прекрасном лице Настасьи Филипповны печать страдания, он еще более любит ее «совершенную» красоту; так и страдание в природе не может исказить живущую в ней первоначальную форму. Ибо в глазах Достоевского страдание таит в себе освящающую и очищающую силу.
Мышкин — не идеалист, как Раскольников. Он весь — память о созерцаемом, он весь — солнечный, Богом просветленный взгляд на все видимое. Люди, правда, не умеют вспомнить то, что он хранит в своей памяти, и они не видят то, что он видит: им дано только признать в нем «чистого глупца». Но и никому не приходит в голову назвать его сумасбродным и пустым мечтателем. А он и не проповедует никаких идеологий, а когда мерит человеческие обстоятельства своим своеобразным мерилом, обнаруживает непосредственное реалистическое чутье к человеческим отношениям, человеческим страстям, нуждам и расчетам. Он так безошибочно раскрывает мотивы человеческих действий, он так холодно и разумно оценивает действительность, что «идиот» предстает им в конце концов как один из немногих мудрецов. Характерно, что Мышкин, в беседе, где все от него ожидают высокое духовное слово, называет себя «с доброй улыбкой» материалистом.
Поистине все сокровенное страдание этой как бы не до конца воплотившейся души происходит именно от ее несовершенного воплощения. Поэтому любил Мышкин в горах Швейцарии погружаться в созерцание водопада за деревней, где он жил; поэтому,
когда он любовался водопадом, становилось ему так волнительно, и его куда-то «позывало» и он «впадал в большое беспокойство». Не была ли это та же непобедимая тоска, приказывающая ему спуститься с привычных милых вершин к земле, объятой темными пеленами страдания? Почему не дано ему стать вполне сыном Земли? Не дано окончательное воплощение? Почему должен он вечно оставаться духом, заблудившимся на Земле, чужеземцем, гостем из стран иных? Человек этот, осчастливленный красотой и мученик красоты, понял, что красота есть его не разгаданная загадка, хоть и твердо знает, что именно «красота спасет мир»; он созерцает роскошь природы, раскрывающуюся перед его ясновидящими глазами, — и печалится: что это за беззакатный праздничный день, что это за бесконечное торжество, манящее его давно, давно, с раннего детства, но для него недоступное? Он с горечью сознает, что нет для него места на празднике, и тем сильнее разгорается его любовь к жизни.
Любовь к жизни — к жизни как таковой, а не только к ее радостям и наслаждениям, — любовь, которая пройдет через огненный опыт страдания, — есть для Достоевского великая духовная ценность. Только эта любовь к жизни несет и живит духовно полумертвого Ивана Карамазова. «Жить хорошо; любо ль тебе на свете жить?» Этот вопрос (из повести «Хозяйка») ставит сама Душа мира человеку.
Первой любовью молодого Мышкина, когда он в Швейцарии проснулся после темного беспамятства и взглянул на впервые перед ним открывающийся мир, был, по собственному его признанию, осел; с ним его внутренне связывала не только приписываемая и тому и другому репутация глупца — пример человеческой несправедливости — но и жертвенный героизм обоим присущего упрямого терпения, которому их научила любовь к жизни, та мученическая любовь, за которую, должно быть, осла особенно чтили в древних оргиастических культах.
В опыте душевного экстаза, быть может еще в мистическом переживании на эшафоте, зарождается представление, глубоко потрясшее поэта, о столь близком нам и все же не узнанном рае на земле: в один миг открылся бы он нам, коль имели бы мы смелость чистых сердцем открыть глаза, чтобы увидеть его. Кажется, что это представление в эпоху «Идиота» еще
непосредственно и ему придается только позже некоторое богословское основание в словах Зосимы. Знаменательна та мифическая форма, в которую облекает писатель душевное состояние, указываемое в Новом Завете словами «мир» и «царство небесное в человеке». Лучшая почва для этого небесного ростка — истинная любовь к жизни, как онтологическому дару, а питают его и живят сознание общей вины в страдании мира и душевное знание о всеискупляющей цене страдания. Ибо, если я знаю, что перед всеми виноват, то я не только давно простил своим должникам, но и обрел благодатное утешение, внутренне уверенный, что все со своей стороны мне простили мой исповеданный, неизмеримый грех; и тогда я предвкушаю блаженство того вселенского примирения, которое, в разговоре Алеши с Иваном о слезах ребенка, является для человеческого разума недостижимой предпосылкой рая. Тогда легким мне становится мое собственное страдание, потому что им я снимаю часть общей вины, которая ведь и моя вина; тогда чужое страдание, для меня и для всех взятое человеком на себя, представляется мне частью беспрестанного кровообращения любви, как любовная жертва страдающего, как предродовые боли перед радостью безграничного блаженства, к которому должна привести эта реальная, хоть и не осознанная победа над законом раскола и разлуки, — ибо в Царстве Божием все одно. Чувство рая на земле для Достоевского верный признак душевной благодати. Умерший в юном возрасте брат Зосимы говорит, в радостном просветлении, матери на смертном одре: «Мать, не плачь: жизнь — рай, и все мы живем в раю, только не хотим об этом вспомнить; а коли хотели бы, жизнь завтра же превратилась бы в рай». То же провозглашает таинственный гость Зосимы: «Рай в каждом из нас затаен; коль захочу, он завтра же осуществится во мне навсегда». Что мешает ему захотеть, это тяготящий его неискупленный грех, но как только он примирился со своей совестью и с людьми, исповедая перед народом свою вину, душа его наполняется желанною благодатью, и он мирно опочивает. Но вернемся к нашим размышлениям об «Идиоте»: Мышкин хорошо знает эти состояния души, ему искони присущие и одно время каждый день испытываемые, — и это-то и делает его столь непохожим на всех других и одновременно связывает его с ними. Светлый луч от времени до времени, утешает его в долине слез, через которую ведет его путь.
Чувство рая на земле, чувство бессмертия каждой минуты, весны земной жизни, благодатность всего сущего — все сближает
непосредственно Мышкина с детьми и внутренне роднит его с ними. Для Достоевского любовь к детям, радостное общение, непосредственная близость к ним — печать исключительной благодати. Мышкин и Алеша в этом как родные братья. Метафизике ребенка у Достоевского следовало бы посвятить отдельное исследование: ребенок в центре его учения о мире и о человеке. Воспроизводя символически в образах братьев Карамазовых таинственные и трагические судьбы России, Достоевский рассказывает пророческий сон Димитрия в ночь на пороге его мученичества: Россия явилась ему в виде деревни, сожженной пожаром, лежащей во тьме и отчаянии, где отголодавшие матери протягивали ему, мимо проезжающему, своих младенцев. Полон ужаса и сострадания, пытается Димитрий во сне угадать, откуда все это страдание, и в ответ слышит лишь снова и снова себе вторящие и его до глубины сердца трогающие безутешные слова: «Дитё плачет». Ребеночек плачет — начало всякого страдания на земле: весь неиссякаемый грех земли — грех перед детьми. По верованию Достоевского, нисходят каждый миг на землю сонмы душ, которые в себе сохранили память о рае и могут внезапно преобразить землю в рай, если останется принесенный ими дар непорочным, нерасточенным, неоскверненным. С детским доверием приходят они к живущим на земле и приносят им светлую весть, что каждый миг может нам рай открыться, но люди оскорбляют и развращают их, передают им заразу греха, и превращают в горькие плевелы все непрестанно возрождающиеся всходы небесного посева. «Дети должны расти в садах», — пишет Достоевский в «Дневнике писателя». «В будущем будут и заводы окружены садами». — «Не мучайте ребенка, не оскверняйте, не портите его», — повторяет он с почти болезненным волнением.
Мышкин, как Алеша, с детьми дитя и, в глубине души своей, остается ребенком, хотя мысль его нисходит в сокровенную природу зла; так несет он, по словам Евангелия, свет Царства Небесного в себе. Встречей с детьми начинается его сознательная жизнь: единственное дело, которое он на земле сумел совершить, это спасение Мари, швейцарской деревенской девочки и обращение ее юных преследователей.
Но это действие было лишь первым шагом к свершению великого и таинственного дела, которое выявляется в мифе как некое послание Нисходящего. Небесный посланец, каково бы ни было
его имя, должен освободить Душу мира, лежащую в цепях злых чар; расторгнуть цепи Андромеды, вывести из ада Эвридику или Алкесту; разбудить Спящую Красавицу. Этого освободителя ждет Муриным зачарованная «Хозяйка», ждет Хромоножка в «Бесах» (одна, собственными силами, она ходить не может); его ждет и нисшедшая для спасения мира («Красота спасет мир»), но потом, как Ахамот гностиков, попавшая в плен материи и оскверненная Красота, сама «Вечная Женственность», выявленная в романе в символическом образе Настасьи Филипповны. Создается впечатление, что Достоевский списал ее портрет с дрезденской Сикстинской Мадонны, им особенно любимой. Не случайно Аглая, пытаясь задеть молодого князя, заменяет в «Бедном Рыцаре» мистические знаки A(ve) M(ater) D(ei) или A(ve) M(aria) D(eipara) инициалами имени ее соперницы. С первого же взгляда на портрет Настасьи Филипповны что-то пронзает Мышкина и пробуждает в нем какое-то воспоминание. Ему кажется, что он видел глаза Настасьи Филипповны во сне; да, когда-то он уже видел ее. Настасья Филипповна также помнит, что они когда-то встречались. Для Мышкина красота ее совершенна. «В Вас все совершенство... даже то, что Вы худы и бледны». Но: «Я не могу лица Настасьи Филипповны выносить... Я боюсь ее лица! « — сознается он. Как бы ни была прекрасна Аглая, для него она «хороша... чрезвычайно», но только «почти как Настасья Филипповна». Чувство, которое она возбуждает в Мышкине, это все же не любовь, а, с одной стороны, безграничное восхищение, с другой же — бесконечная жалость. Фатально, что они оба существа нисходящие — любовь Мышкина, которая направлена к земле, требует личность, к ней устремленную, из земли рожденную, от земли восходящую, а не с неба нисходящую.
У Настасьи Филипповны соперница: в роскошной телесности расцветающая Аглая, т.е. «празднично горделивая».* Ее земная красота должна его притягивать так, как, по его же словам, пленяет и зовет его «праздник» жизни на земле, именно потому, что его воплощение несовершенно, и он мечтает о воплощении более глубоком. Здесь заключается трагическая вина небесного посланца, его метафизическое падение, его пагубные мечтания, и последняя причина его снова разжигающейся болезни, ибо та земля, которую он любит в Аглае, не может всецело ответить на призыв Логоса в нем; ее любовь ищет приманить его к себе, затянуть его в ее изначальную тьму, а не обресть через него свободу.
Не случайно гибнет она наконец во лжи и мраке жизни. С Мышкиным повторяется судьба Дон-Кихота: он касается своим светом неподатливой, косной, строптивой материи, но преобразовать ее он не способен и становится в конце концов только комической фигурой.
Из-за этого рокового разрыва в его душе, из-за того, что предает он небо — гибнет Настасья Филипповна. Она знает, что в его образе стоит перед ней ее освободитель, ее спаситель («не мечтала ли я о нем?» — сознается она), но рука, которую он ей протягивает, — лишь бессильная рука путешественника, собиравшегося в путь и оставшегося дома. Почему не может он отвести глаз от Аглаи? Пусть его сострадание, как говорит Рогожин, сильнее, чем его любовь: это бесконечное, божественное сострадание соединяется, однако, в нем с другим, неясным, но его всецело наполняющим чувством. Любовь ли это? Нет, это только на его душу стихийно действующая и (ведь «он не может принять участия в празднике жизни») безысходная, безмолвная сила притяжения земли. Аглае же слишком хорошо известен его душевный раскол; в минуты, когда он, казалось бы, всецело отдается ее прелести, встает перед ним «непостижное виденье», образ ее соперницы, и отводит к себе его душу. «Он повернул к ней голову, сообщает Достоевский, — поглядел на нее, взглянул в ее черные, непонятно для него (Настасью Филипповну понимает он всей своей душой; а земное вожделение для него в конце концов чуждо) сверкавшие глаза, попробовал усмехнуться ей, но вдруг, точно мгновенно забыв ее, опять отвел глаза направо (Аглая сидит на скамье с его левой стороны, стало быть, по народному поверью, на стороне духа зла и соблазна) и опять стал следить за своим чрезвычайным видением».
Роковое сопротивление, которым отвечает Настасья Филипповна настойчивому зову Мышкина, не просто ли это отказ гордой женщины от милостыни сострадания, предлагаемой вместо любви? Нисколько. Ее душевные переживания бесконечно более сложны и возвышенны, глубоко и значительно доносится до нее зов ее освободителя. В сущности она, под личиной надмения, которую держит перед миром, как щит, глубоко смиренна и нисколько не принадлежит к тому, исследованному Достоевским до тончайших мелочей и им не ценимому, типу
«гордых женщин», которые в любимом не его самого любят, а творение их собственных желаний, и которые, даже в минуту внешнего самоотречения — эгоистичны. Унижение, ею перенесенное, — это скорбь по поруганной святыне ее женского достоинства, боль о насиловании и убиении ее души. Ее мнимая надменность, расчетливо вызывающее поведение, ее страсть самое себя мучить притворным бесстыдством, — все это только личина, которой она пытается скрыть отчаяние: она утратила надежду на спасение и искупление. В верхних пластах ее души сменяются в диком волнении обида и возмущение, упрямство и стыд, презрение к людям, ненависть к состраданию, даже ревность, преодолеваемая по-женски выдуманным доводом: князь может быть счастлив с Аглаей, а неравный, желанный брак «такого, как он», с ней, всеми презираемой, ему бы только повредил; тогда уж лучше, чтобы погибла она; такова ее судьба, и это ей поделом. Но ее сокровенные истинные чувства, рождающиеся из прозорливого созерцания тайной ее встречи с Мышкиным, исходят из духовного смирения, истинного покаяния в грехе и нежного материнского сострадания.
Ее благоговейный страх перед тем, в ком она узнает небесного посланца, столь же велик, сколь глубоко покаянное сознание ее падения. Это сознание вспыхнуло в ней и обожгло ее, как только она встретила его прощающий взгляд. Нет, она недостойна «мечтать о нем». Ей подобает омыть его ноги и отирать волосами головы своей: как осмелилась бы она, грешница, назвать его своим супругом? «Его она больше всего боится, — замечает с усмешкой сметливый Лебедев. — И это тайна». В то же время она замечает его детскую неловкость, она испытывает мучительное сострадание, она чувствует, как тяжело ему, и смутно угадывает грозящую ему гибель; мысленно она держит его в своих объятиях и плачет над ним, как Богоматерь на изображениях Пьета. Земным касанием дотронуться до него она не смеет. Ее жертвенный путь ведет ее в заклейменный проклятием дом Рогожина, как путь Кассандры вел в заклейменный проклятием покой Атридов, — под нож, к убиению, которое она заслуживает и которое должно ее спасти.
В такие глубины опустил якоря поэт, творя свое произведение, что не все смог поднять, чтобы начать плавание; и пришлось ему
разрубить не один канат. Только в некоторой части смог он придать художественную форму тому, что созерцал. Он сам говорит в своих письмах, что не выразил и десятой части того, что хотел изобразить, но, что он по сей день радуется на свою неудавшуюся (то есть не до конца выраженную) мысль.
Действительно: то, что ему удалось выразить, поражает гениальной силой и глубиной вдохновения. Но его основная мысль принадлежит «мирам иным»; он не сумел до конца выявить все ее богатство и развить все ее возможности в границах художественного сознания. Если бы это ему удалось, все бы воскликнули, как некогда король, приявший от гостя весть о судьбе человеческой души: «Не напомнил ли провидец сердцу моему о стране, откуда прилетела ласточка, на миг впорхнувшая в наш освещенный круг, и о том, что она снова унесла в родимую ночь?». Так как это ему не удалось, нужно считать его произведение, именно потому что оно насыщенно праобразами мифа, несовершенным. Контаминация различных мифологических мотивов также препятствует окончательной художественной ясности. На примере «Идиота» мы видим, как подчас миф, живая душа романа, раздирает конкретную оболочку его, вырываясь из его рамок, не находя совершенного выражения во внешних формах описываемой жизни, так что читатель, переживающий события повести в категории этих форм, не сознает или лишь смутно сознает его присутствие.
Все в романе многосмысленно и загадочно: многосмыслен и загадочен любострастец и варвар Рогожин, полный невероятной жизненной силы, но замкнутый в некую темную тайну. Немощный освободитель и совершающий освободительное действие убийца соединены магнетическими узами: где один, там неизбежно, неотвратимо другой. Каждый чувствует бессознательно, с безусловной внутренней уверенностью, приближение другого; каждый, сам того не желая, притягивает другого: кажется, что каждый воплотился на земле, лишь позванный другим, позванный своим антиподом и близнецом. Соперники, они повторяют друг друга, как «братья-враги», хотя принадлежат к двум разным мирам, не имеющим ничего общего. Кто мог бы подумать, что душа Парфена Рогожина (Παρφένιος — девственный) — душа-сестра в тайны духа посвященного Мышкина, сколь ни груба содержащая ее вещественная оболочка, сколь ни глубоко и безнадежно опустилась она в темный хаос необузданных страстей, которые демонически затемняют ее угасающий
внутренний свет и делают ее алчной и жестокой. Один — не достигший окончательного воплощения, другой — тяжко страдающий от земного бремени, один — нисходящий, другой — к свету устремленный всей верою своей во Христа, укрепленный сомнением и радостно принятым искуплением — оба таинственным образом нужны друг другу и друг друга дополняют.
Не оба ли представляют для Достоевского, в своем двуединстве, синтез русской души? Князь из древнего русского рода, у которого даже воспитание на чужбине, на Западе (намек на западную культуру высших общественных слоев в России) не отняло его народные корни, и тот, другой, связанный с ним кровным побратимством, представитель темного народа — оба люди одной веры, одного мистического мировоззрения или, вернее, прозрения; поэтому оба они с той же ясностью различают метафизический лик Настасьи Филипповны (ἀνάστασις — воскресение). Неудивительно, что они побратимы, что обменялись крестами и, хоть соперники, любят друг друга, как кровные братья. Оба влекомы к той же любимой женщине, которой предназначены судьбой. Кто ж обретет ее — тот, кто осуществит жизненное начало, кто, пройдя через огонь и воду, докажет свою жизнеспособность, или тот, кого жизнь оттолкнет? Один предъявляет на невесту права безграничной любви сына земли к небесной, нисходящей для спасения мира красоте, — другой, — права сына неба, исполненного божественным состраданием к мученичеству миром искаженной, униженной красоты.
Жертвенный нож того, чья любовь не есть сострадание, милосердно освобождает Настасью Филипповну; и в роковую ночь, когда все уже свершилось, он отдает ее, уже больше земле не принадлежащую, своему другому, лучшему я, своему духовному брату. На девственном брачном ложе, ничего не зная о свершившемся, князь ложится, по указу убийцы, рядом с убитой невестой, спрятанной портьерой, а Парфен ложится рядом с ним с другой стороны. Эта потрясающая сцена полна немого ужаса, уносящего душу в вихрь безумия. Какая легенда вторит, как далекое эхо в седых развалинах, этим обрывистым фразам, этим глухим крикам двух исступленных, для коих мир вышел из колеи и распались и исчезли все связи бытия? Где видали мы этих двух, уплывающих с женщиной на лодке в безграничное, ночное море бессознательного — и возвращающихся без нее к берегу? Откуда доносились уже до нас эти смутные, бессвязные стенания, рожденные бредом ревности и отчаяния, этот плач о
красоте, изнемогающей в узах земли, и о спасении ее освободительницей смертью? Читатель вспомнит «Ночное плавание» из «Романсеро» Генриха Гейне:
Вздымалося море; луна из-за туч
Уныло гляделась в волне.
От берега тихо отчалил наш челн,
И было нас трое в челне.
Стройна, недвижима, как бледная тень,
Пред нами стояла она;
На образ волшебный серебряный блеск
Порою кидала луна.
Тоскливо и мерно удары весла
Звучали в ночной тишине.
Сходилися волны, и тайную речь
Волна говорила волне.
Вот сдвинулись тучи толпой, и луна
Сокрыла свой плачущий лик.
Повеяло холодом... Вдруг в вышине
Пронесся пронзительный крик.
То белая чайка морская; как тень,
Над нами мелькнула она,
И вздрогнули все мы, — тот крик нам грозил
Как призрак зловещего сна.
Не брежу ли я? Иль то ночи обман
Так злобно играет со мной?
Ни въявь, ни во сне — и страшит, и манит
Создание мысли больной.
Мне чудится, будто — посланник небес —
Все страсти, все скорби людей,
Все горе и муки, всю злобу веков
В груди заключил я своей.
В неволе, в тяжелых цепях Красота,
Но час избавленья пробил.
Страдалица, слушай: люблю я тебя,
Люблю и от века любил.
Любовью нездешней люблю я тебя.
Тебе я свободу принес,
Свободу от зла, от позора и мук,
Свободу от крови и слез.
Страдалица, горек любви моей дар,
Он — смерть для стихии земной,
Лишь в смерти спасение падших богов.
Умрешь и воскреснешь со мной.
Безумная греза, болезненный бред!
Кругом только мгла да туман.
Волнуется море, и ветер ревет...
Все призрак, все ложь и обман!
Но что̀ это? Боже, спаси ты меня!
О, Боже великий, Шаддай!
Качнулся челнок, и всплеснула волна...
Шаддай! о, Шаддай, Адонай!
Уж солнце всходило, по зыби морской
Играя пурпурным лучем.
И к пристани тихо причалил наш челн.
Мы на берег вышли вдвоем. *
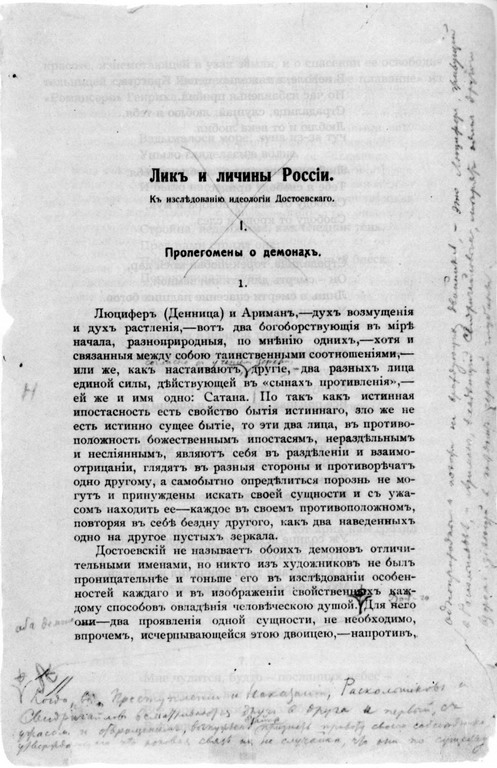
Страница из статьи Лик и личины России
с правкой и дополнениями В.И.
«O вы, разумные, взгляните сами, И всякий наставленье да поймет, Сокрытое под странными стихами!» * Хоть и выглядят его стихи столь же непривычными, как одеяние чужеземного путешественника, все же под одеждой паломника светит истина церковной догмы. «Здесь в истину вонзи, читатель, зренье; Покровы так прозрачны, что сквозь них Уже совсем легко проникновенье»,** говорит Дант в другой части поэмы. И действительно: под вечными снегами мистических созерцаний, через многоцветные, изменчивые пелены символических видений, повсюду выявляется в Божественной Комедии неколебимый камень схоластического богословия, имя которого, на языке Фомы Аквинского, «Sacra Doctrina», «Священное учение».
С тем же правом и мы можем говорить mutatis mutandis — о «доктрине» Достоевского. Для обоих поэтов, цель «целого и каждой его части» — мы повторяем слова Данта о своей поэме — «освободить живых еще при жизни от их несчастного состояния и привести их к блаженству».** Для обоих путь к достижению их цели в религиозной истине; оба прияли «пелену поэзии из руки Истины». Для обоих поэтическое видение есть пелена, через которую взгляд может проникнуть и открыть за ней тайну миров иных. Обстоятельства культурной обстановки приводят одного поэта к созерцанию, другого к защите догмы. Дант приносит верующим утешение, Достоевский ищет обратить к вере от религиозного мировоззрения отпавших. Но оба выступают как
религиозные учители, оба всматриваются в глубинные обрывы зла, оба провожают грешную и ищущую спасения душу по трудному пути ее восхождения, оба радостно сознают божественную гармонию. Оба хотят указать своему народу его историческое призвание в свете христианского идеала.
Таковы их общие черты; но на фоне этих общих стремлений еще более ярко выделяется исторический и личный контраст между обоими религиозно направленными художниками. Разница между этими исповедниками веры не только в противоположности многих положений и методов: один основывается на всеми принятом, для него и для его читателя одинаково неоспоримом факте Откровения, другой, сам этот факт признавая, не подразумевает, однако, что он очевиден для других. Учение Данта эпически совершенно и статично, как сама догма, непоколебимо, как строй ада, и при всей мощной напряженности внутренней жизни покоится в самом себе как небесная роза, дышащая в излучениях бесчисленных душ; апологетика Достоевского в сущности своей динамична и трагична.
Дант искони спасен; поэтому ведет его верный и надежный вожатый. Достоевский с самого начала «к злодеям причтен», в каждом жизненном опыте открывается перед ним внутреннее знание об ответственности всех за всех и о вине всех за всех и за все — вине, но, стало быть, и благодатной помощи. Носитель благой вести о спасении, он не проходит мимо толпы изгоев и духовно слепых; он остается среди них. Страдалец, как они, как первый из вероотступников и бунтарей против Бога, он ищет во тьме своей души и чужих душ свет, не объятый тьмой, и как увидит его, всем громко возвещает, что увидел. И опять, по-новому, во тьме, которая опять, по-новому, все объяла, ищет он путь к источнику света, и коль завидел снова свет, спешит дать весть о том «живущим в ночи и тени смертельной», — обитателям Платоновой пещеры, не знающим солнечного света. У него нет вожатого, кроме лика Христова, который он раз увидел и навсегда полюбил. Так блуждает он с этим видением в душе в ночи по краю зияющих черных пропастей. Две души живут в его груди, и каждая из них знает, что ей нужно, чтобы расти.
Давно уже сделал он свой выбор: залог тому — на его пути сияющий лик Христа. Он знает путь, «ведущий в жизнь», и он знает путь, «ведущий к погибели». Но его отношение к аду не то, что у Данта: ад, который он побеждает, — часть, отщепившаяся от его собственного я, и огонь чистилища сжигает его и мучит бесконечно. Его вопль к Богу снова и снова: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи» (De profundis clamavi). Ему не шлет знамения ожидающая на небесах Беатриче. Только «священная болезнь» приподнимает ему на миг завесу над вратами в рай.
Как открывается этому странному апологету религиозная истина? Человеческая душа исследуется в ее болезнях, внутренних потрясениях, открывающих глубинные тайны ее самосознания; или Достоевский изображает души, которые с рождения, по своей природе, невольно и даже бессознательно опрокидывают жизнемудренное «primum vivere, deinde philosophari»,* и тогда для них то, что обыкновенно называется исканием смысла жизни ответ на основной вопрос, «принимать» явленную перед ними как данное жизнь или «не принимать», — и это определяет все их действия, больше того, их бытие и их решение остаться в этом мире. В своих произведениях Достоевский приводит ищущих смысл жизни к основному выбору человеческого существования: так, как бы при вспышке молнии открываются перед ними, в минуты душевного кризиса, два единственные пути, данные человеку: путь признания и путь непризнания Бога. По плодам узнается истина. Анализ решающего самоопределения личности, которое может быть лишь безусловным приятием или столь же безусловным отрицанием ее метафизического бытия, ее онтологической ценности, показывает, как возможен акт веры. Мощная диалектика приходит на помощь психологу и мистику: исходя из принятия или отрицания религиозной истины, она ведет мысль как Сивиллу, принужденную пророчествовать, — к последним последствиям и приятия и отрицания для личной и общественной жизни. Предмет веры не доказывается; Достоевскому достаточно описания двух возможностей: человек, которого он воспринимает метафизически свободным, должен этим окончательным решением осуществить свою (тогда, и быть может, только тогда не мнимую) свободу. Это не разумом предрешенный выбор одной из двух гипотез, а признание и решение сердца.
«Евклидов разум» формален. Бытийное объятие реальности дано только любви. Лишь она может сказать «ты еси» и тем в то же время утвердить бытие любимого. Лишь она реально
соединяет познающего с предметом познания, а, коль погаснет любовь, удалившийся дух заключается в склеп с зеркальными стенами. Апория разума состоит в том, что, с одной стороны, эмпирическая реальность и Божественная реальность друг другом, казалось бы, исключаются; с другой стороны, мир без Бога теряет не только смысл, но и реальность — эта апория решается в пользу веры разумом сердца. Первый плод такого познания — созерцание Божественной бездны в человеке. Но где человеческая личность, в коей сияние Божия лика столь ослепительно, что сами собой рассеиваются все сомнения о Его победе над силами смерти и тьмы?... «Тот, Кто в вас», говорит Апостол, «больше того, кто в мире» (Ин. 4,4). Где же тот, узря кого уверовали бы мы в истину этих слов? Высшая истина разума сердца Христос. Своеобразие апологетики Достоевского в свойственной ей тенденции не выводить любовь ко Христу из веры в Бога, а приходить через Христа к уверенности в бытии Бога. Бог — сон, или мир, Бога отрицающий? Залог затаенного трансцендентного бытия Бога — непосредственное созерцание земной реальности Христа. Никто не придет к Отцу, нежели через Него. «Ессе Homo». Но если человек, в полном своем совершенстве, — таков, как Он, тогда и в зле лежащая земля есть Божья земля, а не «дьяволов водевиль».
Устремляя взор на дальнейшие перспективы двух путей, из которых один должен быть окончательно выбран внутренним человеком, Достоевский открывает самые сокровенные законы истинного и мнимого бытия и, сам того не подозревая, переступает через порог естественного познания Бога и выражает в своем творчестве глубокие прозрения в мистическую жизнь Церкви и общение святых (communio sanctorum), в чудесную реальность единства всех во Христе, в сущность зла и святости. Истины Откровения кажутся ему столь неоспоримыми в своей внутренней явственности, что достаточно их указать человеку доброй воли, чтобы он почувствовал непосредственную их силу. Церковные основы веры становятся предметом интуитивно творческого толкования, как орфическая и пифагорейская догматическая традиция у Платона, и интуиция, опираясь на диалектику, расцветает в почти что визионарном созерцании потустороннего мира. И как у Платона, случайность поводов к созерцанию той или другой проблемы и мнимое безразличие к логическому построению целого не разбивают единства всей системы, так и у Достоевского, душевные содрогания при
приближении к надмирным тайнам и боли медленного духовного рождения не рассеивают только что обретенные познания; наоборот, познания эти, как бы сами собой, объединяются в общую, крепко построенную доктрину.
С поразительной последовательностью системы его идей развиваются от одного большого произведения к другому, от «Преступления и Наказания» к «Братьям Карамазовым». Поэтически не связанные эпосы составляют на самом деле, с точки зрения движения живущей в них мысли, звенья диалектической цепи, единого постоянного восхождения себя познающей идеи по ступеням гениально выраженных и превзойденных антитез. Поэтому Достоевский как мыслитель может быть столь обманчив: некоторые критики ошибочно воспринимают диалектический момент самопознания духа как выражение изначального скепсиса и отчаяния; это, находят они, невольное выявление «другой души» Кентавра, соединившего в одном лице — чудовищная смесь — мятежного каторжника и льстивого фарисея. Перебирая многочисленные взаимопротиворечащие утверждения, которые Достоевский влагает в уста своих богоискателей и богоборцев, они без устали стараются уличить его в том, что он сам не верит в то, что торжественно провозглашает. Эта гипотеза несостоятельна не только в плане биографическом и психологическом (страстный Достоевский так же далек от всякой иронии, как Дант), но неприемлема и в плане логическом; достаточно посмотреть на логическую связь всех единичных элементов, выражающих отрицание, и сопоставить их с большим органическим единством, которое представляет собой все творчество Достоевского. Действительно, все части «доктрины» находятся в таком внутренне обоснованном и живом отношении друг ко другу, мораль, психология и метафизика, антропология, социология, эсхатология так друг друга обуславливают и дополняют, что чем глубже мы проникаем в сущность этого состава, тем более уверяемся, что творения поэтических образов служили художнику средством для всестороннего самораскрытия единой синтетической идеи мира, которую он с самого начала в себе носил как целостное созерцание и как морфологический принцип духовного развития.
Словами Мышкина говорит он сам о «молниях и проблесках высшего самоощущения и самосознания» в экстатическом состоянии, предваряющем эпилептический припадок, когда «ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось... ум,
сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины». Но это целостное, всеобъемлющее созерцание было внутренним духовным взглядом на мир, сотворенный в Боге, это не было явление призраков. Как каждый истинно мистический опыт, это переживание было для мистика реальнее чувственно воспринимаемого мира, но не передаваемо другим, не выражаемо языком понятий, не осязаемо разумом. Поэтому и уверяет Мышкин, рассказывая о своем разговоре с атеистом, что все размышления последнего, независимо от силы их убедительности, ему казались просто несоизмеримыми с глаголами веры. Атеист «во все время» говорил «вовсе как будто не про то». «Тут что-то не то», добавляет князь, «и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить».
Мировоззрение Достоевского еще не раскрыто в его целостности. Современники с самого начала признали и хвалили его как психолога. Две черты его «жестокого таланта» подчеркнули они и тем самым на долгое время предопределили отношение к Достоевскому не массы читателей всегда чуткой, а патентованных литературных судей: благородное, но болезненно пристальное внимание к страданиям и оскорблениям униженной личности и необычайно прозорливый анализ душевной жизни. Что он личность защищает в плане метафизическом, долго (к великой пользе для его успеха) не было примечено. Достоевский жалуется на предвзятость этой односторонней оценки и на полное отсутствие внимания к объективной истине его глубочайших, «реальнейших» узрений. Он не удовлетворяется изображением художественных символов и интуиций, которыми так богата его душа: он ищет (как Дант, автор «Пира» и трактата «De monarchia») формы непосредственно дидактические, в «Дневнике писателя» он дает экзотерическое и более или менее приспособленное к злободневным вопросам изложение некоторых частей своей единой «доктрины», внутреннюю форму и сущность которой он как всякий художник, призванный, по Платону, творить мифы (μύϑους), a не учение (λόγους), — мог осознать всецело и во всей ее чистоте лишь в зеркале мифа.
В начале века критики стараются проникнуть в символы Достоевского и его разные «placita» и «paradoxa». Ho его идеи служат
обыкновенно предлогом для выработки независимых, мистически окрашенных идеологий, которые легко расцветали на богатой почве его титанической проблематики. В наше трезвое время внимание исследователей обращается почти исключительно к открытию фактов и формальных вопросов, к биографии или к технике повествования, к стилю, к сюжету, к художественным средствам и литературно-историческим связям. Изучение философии религии у Достоевского остается важной задачей будущего.
В предлагаемом опыте наша задача — осветить некоторые, до сих пор недостаточно раскрытые связи между отдельными знаменитыми высказываниями нашего мыслителя, указывающие на крайне своеобразное восприятие церковного учения. Наш скромный труд — попытка истолкования, но истолкования также своеобразного; подчас субъективный тон наших размышлений не должен ввести читателя в заблуждение; автор не ищет сообщить здесь свои личные воззрения. Не исповедуя, правда, все члены Символа веры Достоевского, в главном и существенном он с радостью готов признать себя его преданным учеником; пользуясь подчас своими собственными доводами, хоть и неумело, он старается убедить читателей в истине, принятой от учителя, с ревностной непосредственностью хочет он рассказать, как он осознал и передумал все, что получил и что стало его достоянием. Свою верность доктрине он выражает в творчески свободном изложении ее. Для своей правоверности — хоть и не всегда он придерживается буквы — есть у автора, как ему кажется, безошибочный критерий: совпадение формулы дидактической с живой художественной символикой поэта.
Люцифер и Ариман — прообраз отъединения и прообраз растления, — дух светлой (Лк. XI, 35) и дух зияющей тьмы, — вот два богоборствующие в мире начала, или скорее,* два разных лица единой силы, действующей в «сынах противления», — ей же и имя одно: Сатана. Но так как истинная ипостасность есть свойство бытия истинного, зло же, в своем онтологическом небытии, истинно сущее бытие отрицает и зараз ему подражает (иначе не
было бы у него иллюзорного позитивного содержания, без которого его существование было бы просто невозможным), то эти два призрака одной сущности, которая к истинному бытию не причастна, являют себя в разделении и взаимоотрицании; а самобытно определиться порознь не могут, и принуждены искать своей сущности и с ужасом находить ее — каждый в своем противоположном, повторяя в себе бездну другого, как два наведенных одно на другое пустых зеркала.
Не для того, чтобы убедить наших просвещенных современников в наваждении злой силы в нашем научно до конца исследованном и тщательно выметенном культурном мире, упоминаем мы об этих демонах — мы только хотим на них указать. Их характеры так остро обрисованы и идеи, в них живущие, ими так явно представлены, что сопоставления и сравнения этих полководцев «земного града», созданного, по словам блаженного Августина, «любовью к себе до презрения к Богу», кажутся нам крайне показательными для открытия тех внутренних сил, которые привели человека к уходу от Бога и к его вражде с Ним. Но прямая цель этого сопоставления: указать и уточнить и глубже изучить смысл принципиального различия у Достоевского между двумя типами человечества и общества — богоутверждающим и богоотрицающим — и таким образом правильно осветить религиозный идеал будущего, каким он представлялся Достоевскому.
Правда, Достоевский не называет обоих демонов отличительными именами, но никто из художников не был проницательнее и тоньше его в исследовании особенностей каждого и в изображении свойственных каждому способов овладения человеческой душой. Когда в «Преступлении и Наказании» Раскольников и Свидригайлов всматриваются друг в друга и первый, с ужасом и отвращением, вынужден втайне признать правоту своего собеседника, утверждающего, что роковая связь их не случайна, что они по существу одноприродны и похожи на враждующих двойников, — это Люцифер, живущий в Раскольникове, и Ариман, владеющий Свидригайловым, мерят один другого взором зияющей в каждом черной глубины. Для Достоевского оба демона* — два проявления одной сущности, не необходимо, впрочем, исчерпывающейся этою двоицею, — напротив, по-видимому, таящей в «глубинах сатанинских» еще и третий, а именно женский, лик, «содомскую красоту», которую наш исследователь ада противопоставляет «красоте Мадонны».
Во всяком случае, Черт Ивана Карамазова, мелкий, но типический — в качестве беса пошлости и плоскости — представитель Ариманова легиона, развивает, как свой собственный («глупцы, меня не спросились!»), чисто люциферический замысел: «Раз человечество отречется поголовно от Бога, — человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится Человекобог».
Но на что Ариману это возвеличение человека? — «Всякий узнает», — продолжает бес, — «что он смертен весь, без воскресения... что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды». Осанка все еще величаво-люциферическая, но ударение на том, что человек смертен весь и без воскресения, обличает всего Аримана, с его стихийным вожделением и определенным намерением: развращая и распыляя за телесными и душевными оболочками человека и его глубинную волю, уничтожить в нем образ и подобие Божие, умертвить его дух.
«Люди совокупятся», — поясняет бес, — «чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире». Это дьяволово «совокупление» и следующее затем «все позволено» — полная программа Аримана: завлечение духа в хаос не пробужденного к бытию, косного вещества приманками чувственности, — с тем, чтобы «свет» был «объят тьмою», истлел и угас в ней, чтобы разрушился целостный, бытийственный состав личности и распепелился в похоти и пороках, и ничего не осталось бы от «человекобога», кроме «груды тлеющих костей».
Возможно ли это угашение и разрушение духа? Иоанново Откровение таинственно упоминает о «смерти второй»...
Но, повторяю, этот взгляд на фосфорически светящегося Денницу, духа — первомятежника, внушающего человеку гордую мечту богоравного бытия, «печального демона», «сиявшего» Лермонтову «волшебно-сладкой красотою», и раньше уже пленившего Байрона, «могучего, страшного и умного духа», по определению Великого Инквизитора, и на тлетворного, все оскверняющего и злобного Аримана, призрака Зла во всей черноте его бесстыдно зияющей опустошенности и конечного ничтожества, как на два лика единой силы, — иным кажется мрачным,
фанатическим, изуверским. Они явственно видят, что вся человеческая культура созидается при могущественном и всепроницающем соучастии и содействии Люцифера, что наши творческие, как и наши разрушительные энергии — в значительной части его энергии, что через него мы бываем так красивы смелостью дерзкого почина, непоколебимостью самоутверждения, отвагою борьбы — за силу и славу — и пусть даже несчастны, но и самим героизмом нашего страдания так горделиво упоены.
Некоторые из так думающих не легкомысленно отдаются романтической прелести демонизма, но далеко видят и знают, что дело идет о бесконечно более важном и существенном: о выявлении первоначальных сил и стремлений человеческой природы. Более прозорливые идут дальше: они знают, что сами условия нашего уединенного сознания, столь безнадежно заключенного и ограниченного в описании Канта, и даже само строение (пентаграмма) тела нашего, — этого, по Владимиру Соловьеву, «организованного эгоизма», — суть проявления в детях Адамовых Люциферова духовно-душевного начала, — почему и не решаются причислить к миру «зла» самые корни нашего обособленного, индивидуального бытия. Но нельзя не признать, что отрицание прирожденного зла в природе человека делает бедным и плоским наше представление о его истинном призвании, о его трагическом величии, его метафизическом достоинстве: так, например, гуманизм не знает более высокого идеала, чем всестороннее гармоническое развитие природных сил личности, понятой лишь как исторически обусловленное явление в мире нашей культуры. Таков взгляд антропологического оптимизма, который испуганно отвергает понятие «первородного греха», — то есть первоначального самоопределения человеческой воли, отказавшейся от Бога, и всех последствий этого метафизического происшествия, и предпочитает видеть в человеке звено в цепи восходящего развития; он не замечает при этом, что человек таким образом не облагораживается, а снижается, ибо ему предложено не превзойти самого себя, а отказаться от изначально ему присущих прав.
Но как относятся друг к другу оба демона в их действии на человека?
Люцифер есть сила замыкающая, Ариман — разлагающая. Люцифер в человеке — начало его эгоистического пребывания в себе, его гордой самостоятельности, его своевольного самоутверждения в отъединении от целого, в отчужденности от
Божественного всеединства. Он говорит людям: «Вы будете, как боги», — и выполняет свое обещание: единый Адам, названный в Евангелии «сыном Божиим», раздробляется на множество «как бы Божеских» личных воль. А человеческая божественность в этом раздроблении оказывается, с одной стороны, в самом деле данною, даже до вмещения в личном сознании не только всего творения, но и самого Бога, как идеи, с другой же стороны, — это человеческое Богоподобие не реально, а лишь мыслимо и замкнуто в внутреннем мире личности — до тоски одиночного узничества и до отчаяния в собственном бытии.
Этим отчаянием и пользуется Ариман, чтобы побудить человека произнести в сердце своем: «аз не есмь». Так различествуют внушения обоих демонов: Люцифер злоупотребляет божественным «аз-есмь» в человеке, извращая его смысл и силу, а тем самым и глубинную человеческую волю (Раскольников); Ариман, развращает последнюю, обнаруживает несостоятельность самого «аз-есмь», каким оно живет в извращенной и тлетворной воле (Свидригайлов).*
Люциферово действие можно назвать извращающим (инвертирующим), а Ариманово — развращающим (первертирующим). Но в чем сущность человеческого «аз-есмь», и как происходит его раскол?
В даровании Отчего «аз-есмь» человеку, сыну Божию, созданному для того, чтобы осознать и свободно поволить себя, — а через то и стать — «рожденным» от Бога (как сказано: «должно вам родиться свыше»), — в этой жертве Отчей и состояло сотворение человека Богом и напечатление на нем образа и подобия Божия.
Это данное сыну Отчее Аз-есмь Люцифер соблазняет человека принять и истолковать не по-сыновнему («Я и Отец — одно»), а как мятежная тварь: «Я есмь в себе и для себя и от всего отдельно;** себе довлею и все, что не я или отстраняю и не приемлю, даже до того, что не вижу и не слышу его, не помню и не знаю, — или же собой объемлю и в себя поглощаю, чтобы из себя же в себе воссоздать, как свое собственное явление и отражение».
Итак, Люцифер в человеке жадно схватывает и как бы впитывает Божественное аз-есмь, но осуществить его не может. И человек остается с отличающею его от других существ благородною
неудовлетворенностью собственным бытием. Он слишком знает о себе, что он есть, и знает в то же время, что никогда не может достойно произнести аз-есмь; почему и собственного существования, только «существования», — стыдится (в этом примета его духовного благородства) или смутно чувствует в нем некую вину обособленного возникновения (Анаксимандр). Томление же свое по истинному бытию принимает сам, как «жажду бессмертия», вера в которое, по Достоевскому, есть источник всех творческих и нравственных сил человека. Но так как Люцифер замкнул человека в его самости и пресек для него возможности касания к мирам иным, то «жажда бессмертия», как называет человек свое томление о бытии истинном, оказывается для его самому себе предоставленного природного разума пустым притязанием, не основанным ни на чем действительном. Ведь Люцифер именно закрыл человека от всего реального и сделал так, что все отсветы и отголоски такового представляются человеку, ставшему «как бы богом», — его собственным творением, порождением его самосознания. Люцифер сказал человеку: «Ты — тот, кто может сказать о себе, подобно Богу: аз-есмь; итак, державствуй над миром, одержи его и содержи в себе, как Бог». Но, когда человек, подобно Архимеду, потребовал пяди почвы, где бы он мог стать и утвердиться, чтобы двинуть рычагом своего божеского могущества, — искуситель исчез, оставив человека висящим в пустоте содержимого им мыслимого мира.
От начала посюсторонней человеческой истории предстоит человеку Люцифер, как его искуситель, как его испытатель. Человек, чтобы оправдаться в этом испытании, должен сам найти свое другое, как точку опоры, — должен действием любви и той веры, которая уже заключается в любви и ее обусловливает, обресть свое ты еси. Восходя, как наставляет Платон, по ступеням любви, он учится открывать на каждой новой ступени в любимом все большее причастие бытию истинному и через то вырастает в бытии сам, приобщаясь ему от любимого, — пока, в своем алкании безусловного бытия в другом сущем, не узнает несказанным возгорением своего сердца Единого Возлюбленного, объемлющего, утверждающего и спасающего в Себе другие любви, и не причастится от Него истинному богосыновству.
Если же не обретет человек действием любви того, кому бы мог сказать всею волею и всем разумением «ты еси» и не подольет, взяв извне, елея в лампаду своей Психеи, чей огонек есть его божественное «аз-есмь», то приблизится к нему Ариман и
спросит его: «Скоро ли ты допьешь, наконец, до дна хмельной свой, но горький кубок с мертвым начертанием по краю: аз-есмь? Ведь уже и дно кубка видишь: видишь, что на дне — небытие. Пойми, что изжито и кончилось аз-есмь, потому что ты не нашел, кому бы мог сказать воистину ты-еси, потому что ты убедился, что Бога нет. Итак, не будет более и тебя самого». Тогда знак индивидуации человека,* пятиугольная звезда его, или пентаграмма, обращенная средним лучом вверх, к небу («os sublime fert»), символ движущей энергии и действенной воли, — которая, коль она действенна, необходимо ведет к самопреодолению, — опрокидывается острием вниз и падает в зияющую тьму Аримана. Так, по стопам Люцифера приходит Ариман: к Фаусту пристает неотлучным спутником Мефистофель, подстрекатель к злодеяниям и их исполнитель; благородный Каин Байрона, сдружившийся с Денницею, кончает убиением брата; то же происходит у Люциферовых героев Достоевского: Раскольников убивает старуху, Ставрогин, после многих злодеяний, кончает самоубийством; Иван Карамазов полусознательно использует Смердякова с целью отцеубийства.
Но помимо того, что воздействие Люцифера на человеческую душу является не непосредственным губительством этой души, а лишь страшным испытанием ее жизнеспособности, — воздействие это заключает в себе, на первых порах, и необычайную духовную возбудительность: могущественно повышает и обостряет оно все бытийственные и творческие энергии человека. Чувство аз-есмь, собираясь в средоточии личности, как в горящем очаге, изживает себя в диалектическом раскрытии всех духовных богатств и миров, дремлющих в таинственном есмь. Люциферическая энергия толкает человека, как Фауста, который мнит себя «сверхчеловеком», а в небе зовется «Божьим рабом», на свой лад «к бытию высочайшему стремиться неустанно».
Прав Гете, провозглашая, что душу делает способною принять искупление заслуга ее неустанного стремления и что, если «к тому же принимает в ней участие любовь свыше», тем вернее она спасается; а что торжествует над нею темная сила лишь в мгновения остановки ее стремления. Будь то остановка из самодовольства, как у Фауста, — внезапное оцепенение залюбовавшейся собою гордости, — или от всецелой самоотдачи человека
какой-либо страсти, которою вовремя успел околдовать его Ариман (например, обидчивой зависти, как это случилось с Байроновым Каином), — не пройдет и мгновения времени, как Ариман крепко хватается за свою добычу.
Из чего следует, что действие в человеке люциферических энергий, будучи необходимым последствием того умопостигаемого события, — отпадения от Бога, — которое Церковь называет грехопадением, составляет естественную в этом мире подоснову всей исторической культуры, в главных чертах ее языческой по сей день, и поистине первородный грех ее; ибо культура лишь отдельными частями «крещена» и только в редких случаях «во Христа облекается». Такое действие Люцифера опасно, но не губительно — при условии постоянного движения, непрестанного преодоления обретаемых человеком форм его самоутверждения, новыми формами достойнейшего бытия. Оно обращается в смертоносный духовный яд при угашении динамических энергий, в мертвых водах застоя, над которыми простирает свои черные крылья Ариман. Царство последнего в аспекте застывшего распада люциферически-замкнутой личности изображено Достоевским в грезе Свидригайлова о вечности, — сырой погреб с заколоченными дверями и пауками в углах, — в аспекте длительного тления в веселых разговорах жителей кладбища («Бобок»).
Поскольку стоячее самоопределение человека или общества собою питается и в себе утверждается, как верховное и самодовлеющее, над Аримановой тьмою мерцает в этом месте, подобно фосфорическому блеску гниения, люциферический отсвет. Мерцает он — (чтобы опять вернуться к роману «Братья Карамазовы», дающего нам путеводную нить в этих размышлениях) — и вокруг Ариманова узника, Карамазова-отца, и служит скрытою основой его богоборческой фронды и вольтерианского богохульства.
Люцифер — «князь мира cero», Ариман же — его приспешник, палач, сатрап и в чаяньи своем, престолонаследник. К нему должна перейти держава земли, если не упразднит Люцифера Тот, Кто называет Себя в Откровении Иоанновом «Звездою Утреннею, Первым и Последним» — «Агнец Божий, вземляй грех мира».
Во всех писаниях Нового Завета словам «Земля» и «мир»
усвоено особливое против обычного значение: светлое — первому из них, темное — второму. «Мир» ненавидит Слово, ставшее Плотию, и приявшие Слово ненавидят «мир»: «Земля» как бы покрыта и окутана «миром», сама же не «мир». Она подобна жене-самарянке, шестой муж которой — не муж ей: так и «князь мира cero» не истинный муж Земли, а лишь владыка ее; его владычество над нею и зовется «миром». «Мир» есть данное состояние Земли, внешне и видимо обладаемой Люцифером: ее modus, — не substantia. Седьмой, небесный, вожделенный и чаемый Жених смутно узнается женою в чертах Пришельца, сказавшего ей: «дай Мне пить».
Господство Люцифера над Землей не распространяется до глубин ее мистической реальности: он разорвал все связи с реальностью и коснуться ее не может. Господство его над Землей — чисто идеальное господство, так же как сам «мир» идеален: оно осуществляется при посредстве и в пределах идеалистически созидаемых человеком форм и норм. Оттого, по Достоевскому, если от Аримана спасает один Христос Воскресший, то чары Денницы рушатся уже от приникновения к живой Земле. Люцифер идеалист; ненавистная Люциферу реализация его есть Ариман. Реальные соперники — Христос и Ариман. Христос несет тварности девственную непорочность и воскресение, Ариман — тление и небытие. Символически ознаменовано это соперничество у Достоевского, в «Братьях Карамазовых», — сновидением Христова пиршества, представившемся Алеше, смущенному «тлетворным духом», у гроба старца, под монотонное монашеское чтение Евангельского рассказа о браке в Кане Галилейской.
Решается соперничество в исторических судьбах Земли через человека и в человеке. Ныне княжит в нем и через него Люцифер, творящий культуру, — какою мы доныне ее знаем. Воля культуры — поработить природу; воля природы — поглотить культуру. Культура, по Достоевскому («Подросток»), — уже «сиротство», «великая грусть» о «заходящем солнце». Культура пришла к концу или к распутью? В теперешнем ее состоянии она спасается своею динамикой и должна бежать, безостановочно бежать, как зверь, травимый ловцом. Ее гонит «князь мира» со сворою Аримановых собак. Долго ли еще может продолжаться этот бег?
Конец люциферического — культурно-исторического — процесса приводит к распутью, где Люцифер покидает путников и им предлежит выбор между узкою тропою Христа и широкою
дорогою Аримана. Но на этой стадии немногие смогут решиться на свободный выбор, только тот, кто сумел сохранить свой духовный лик, найдет в себе силу отвернуться от толпы и войти в Божий стан, подобно виноградарям притчи, пришедшим на работу в последний час. Другие бросаются, как слепое стадо, в другой стан — стан Легиона. Символы Легиона, Люцифера и Аримана, Достоевским нигде прямо не раскрыты, но совершенно ясно предначертаны. Эпиграфом к роману «Бесы» он выбирает евангельский рассказ о демонах, бросившихся в стадо свиней после их изгнания из бесноватого, вышедшего из Гадаринских гробов. Перед тем как излечить бесноватого, Христос спрашивает его: «Как тебе имя?»* Бесноватый отвечает, говоря о себе «я» и «мы»: «Легион имя мне, потому что нас много».*
«Легион» (см. часть I, гл. I, 1,4) это то, уже описанное выше скопление людей, о которых бес говорит Ивану Карамазову: «Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире».
Эпоха легиона начнется, как только окончательно завершится распад духовной личности.
В «Записках из подполья» Достоевский изучает современное положение личности, обессилевшей вследствие ослабления высшего духовного самосознания и тщетно ищущей укрепить свое попранное достоинство и свою независимость в столь же, как она превратной — ибо лишенной любви и веры — общности. Личность трусливо и злобно запирается в своем от всех скрытом мирке, собирает там все свои злорадно накопленные обиды и мстит обществу тем, что выползая иногда из Ариманова подполья, кусает первого встречного, как змея, на которую наступил прохожий. Герой подполья в жизни отталкивает, но в своих размышлениях проницателен и возвышен. И так как даже в нем Достоевский признает святыню человеческого достоинства и готов во имя этой святыни восстать вместе с ним против общества, он, не смущаясь, выражает его устами в самой элементарной форме свою религиозную истину об устройстве общества: отношения между личностью и обществом должны быть основаны на взаимной любви; личность добровольно трудится на благо всех людей, а общество обороняет личность. Исходя из
этого постулата, Достоевский подвергает уничтожительной критике современные общественные отношения, которые, по его мнению, основаны на глубокой несправедливости. Никакие внешние силы, однако, не способны уврачевать это глубоко укорененное зло. Личность законами этого мира обречена на умаление и истощение, оттого что замкнулась в себе, ища «сохранить свою душу». В своем вожделении самоутвердиться, она не знала, что, собственно, она в себе утверждает. Утверждала свои случайные признаки, из коих одним говорит рок: «это истлеет в могиле», — другим дух времени: «это отнимется у личности в пользу вида». Между тем, все, что личность восхотела бы посвятить в себе Богу, было бы сохранено для нее и приумножено, и приумножило бы ее самое.
Но личность была скупа, жадна и недоверчива: она перестала доверяться Богу и верить в Него, — а, стало быть, и в себя, как в истинно-сущую. Любящий знает любимого и не сомневается в его бытии; человек же, ослабевая в любви, уже боится растратить жар души в пустыне мира и свою любовь обращает на себя самого. Если справедливо, как говорит Ницше, что доселе все лучшее свое он отдавал Богу, то ныне он захотел отобрать назад все свои дары: но они оказались в его руках лишь горстью пепла от сожженных им жертв. Человек увидел себя нищим, как блудный сын, потому что Бог уже не обогащал его, и безличным, потому что угас в небе сияющий Лик, а с ним и внутренний образ Божий в человеке. Любовь есть реальное взаимодействие между реальными жизнями; нет любви — нет и чувства реальности прежде любимого бытия. Разлюбив Бога, личность возлюбила себя, себя возжелала — и себя погубила. Она забыла и предала божеское в себе, сберегая для себя только человеческое, и вот — оно истаяло, как тень.
Душа, оскудевшая любовью и верою, в ее отношении к личности, в Боге самоопределяющейся и «в Боге богатеющей», —уподобилась чахлому дереву, которое стало бы укорять живое за бесполезную трату сил на свежие побеги. «Но я тянусь к солнцу», — ответило бы живое дерево. «Солнца нет», — возразило бы чахлое, — «ни ты, ни я его не видим». — «Однако, я его чувствую», — спорило бы живое, — «мне сладко раскрываться его теплу и как бы уже досягать до него и касаться его все новыми и новыми ростками». Другое сказало бы: «Я также ощущаю теплоту, — это то правильно повторяющееся в нас состояние, которое называют весною; но я не так легковерно, как ты, и употребляю свои соки
на внутреннее питание». Так и пребывало бы в самообольщении своею внутреннею насыщенностью подсохшее древо, пока не срубил бы его садовник.
Последнее слово борьбы за существование: бессилие начала личности перед началом вида. Неуклонно следуя правилу: «разделяй и господствуй», князь мира cero достиг над людьми господства величайшего. За все века новой истории он разделял людей, уча личность самочинности («Антихрист свое дело строит на анархии», говорит Достоевский) и замыкая ее в себе самой. Мятежная гордость Адама была размолота в муку атомов самолюбия, притязательности и обиды. Между непроницаемыми единицами невозможным стало другое вольное соединение, кроме механического, корыстного сообщества. Прежние узы органического* соединения были ослаблены внутренним распадом. Все формы утилитарной кооперации — соглашение особей по видовому признаку с целью усиления вида — стали желанны, как путь, спасающий каждого. Наступает время не только теснейшей общественной сплоченности, но и новых форм коллективного сознания.
Если это так, то человечество близится к распутью, где дорога расщепляется на два пути, ведущие в два разные града, о коих читаем у блаженного Августина: «Создали две любви, два града: любовь к себе до презрения к Богу — Град Земной: любовь к Богу до презрения к себе — Град Небесный».* И нельзя уже будет ни одному человеку мнить, что он вне града, и нельзя будет на земле уберечь своего одиночества. Не только внешнее достояние человека, но и все внутреннее его явно свяжется со всем, его окружающим, общею круговою порукою. Круговою чашей станет вся жизнь, и всякая плоть — частью общей плоти.* Антихристов стан будет казаться еще теснее на вид собранным воедино и внутренно слиянным, чем стан Христов; но это будет только видимость. Начала соединения в том и другом обществе, сонме или граде будут совершенно противоположны.
Град Земной, в Августиновом смысле, твердыня противления и ненависти к Богу, отстроится тогда, когда личность будет окончательно поглощена целым; но печать этого града — печать Антихристова — будет наложена на чело лишь того, кто не сумеет, прежде всего, отстоять свою личность, — не самолюбивые
конечно, притязания, не поверхностное своенравие внешнего человека, но свое внутреннее бытие, с его святынями, залогами и обетами сердца, и непреклонную силу свободного самоопределения «перед людьми и Божеством». Из чего следует, что ревнивее всего должен человек в наши времена святить свободу, достойно и праведно переживать и познавать ее в себе и не поступаться ею иначе, как для добровольного послушания тому, что он обрел, как высший закон в собственной сердечной глубине.
В наши времена вера в Бога должна сочетаться с глубоким и целостным опытом живой веры в сущее бытие неистребимого сокровенного я в человеке. Вера в Бога всегда и имела своим соотносительным следствием это переживание, в форме верования в бессмертие души. Поэзию Байрона, отражающую соперничество человека с Богом, признает Достоевский, как великое и святое явление европейского духа, именно потому, что эта борьба с Богом утверждает бессмертную в ее сущности и божественную природу человеческой личности. * Ослабление веры в Бога сопровождается утратою чувства внутренней личности, а эта утрата приводит к самолюбивой уязвимости, к душевному состоянию «человека из подполья», унынию и роковому самообману самоубийства. И чем больше растет, как гидра, гордость, тем глубже унижается в собственных глазах — до комка спесивой слизи — призрачный субъект надмения, «гордый человек» (как называет Достоевский люциферического человека). Так, в наши дни, естественно спрашивать о вере не по-старому: «веришь ли в Бога?», а по-иному: «веришь ли ты в свое я, что оно воистину есть, высшее тебя, временного и темного, большее тебя, немощного и малого?» Ибо, ведь, современная наука ничего не знает о реальном бытии никакого я, и оно стало ныне предметом чистой веры, как и бытие Бога.
Скопление людей в единство посредством их обезличения должно развить коллективные центры сознания, как бы общий собирательный мозг, который не замедлит окружить себя сложнейшею и тончайшею нервною системой и воплотиться в подобие общественного зверя, одаренного великою силою и необычайною целесообразностью малейших движений своего строго соподчиненного и сосредоточенного, существенно механического, но и как-то одушевленного состава. Это будет
эволюцией части человечества, количественно преобладающей, к Сверхзверю, про которого будут говорить, как пророчит Откровение Иоанново: «Кто подобен зверю сему?». Это будет вместе апофеозою организации, ибо зверем будет максимально организованное общество. Отрицание Церкви, как чаемого Града Божия на земле, должно было неизбежно привести к обожествлению описанного Гоббсом «Левиафана». На этой наклонной плоскости мы наблюдаем уже Гегеля с его учением о государстве, и еще более марксистский идеал пролетариата.* Незадолго до смерти Достоевский пишет в своей «Записной книжке»: «Мы не только абсолютного, но и более или менее законченного государства еще не видели; все — эмбрионы». Множество, не связанных соборностью и обезличенных индивидов, носит имя Легион, о котором мы уже говорили.
Столь тревожная для нас проблема Легиона принадлежит к непроницаемым тайнам Зла. Духовная привилегия человека, свидетельствующая о его божественной природе, — в том, что он может действительно постигать только истинно сущее, а не его извращенные отражения в стихии Зла. Сын Логоса, он обретает смысл только в том, что причастно Логосу. Как разъединение может стать принципом соединения, как ненависть может сплавлять взаимоненавидящие элементы, — нам, к счастью, по существу не понятно. Но наличность Легиона, одновременно именующего себя «я» и «мы», все же дана, как феномен.
Рассудочно мыслима эта кооперация лишь при допущении, что она представляет собою механически организованное скопление атомов, возникших из распыления единой злой силы, — столь злой, что вследствие внутреннего раздора она утратила собственное единство и распылилась во множество, которое поневоле сцепляется, чтобы призрачно ожить в своих частях и придать целому, как гальванизованному трупу, подобие бытия. Но частицы, из коих собирается это мнимое целое, уже не живые монады, а мертвые души и крутящийся адский прах.
Так и человеческое общество, ставя своим образцом Легион, должно начать с истощения онтологического чувства личности, с ее духовного обезличения. Оно должно развивать, путем крайнего расчленения и специализованного совершенствования, функциональные энергии своих сочленов и медленно, методически убивать их субстанциальное самоутверждение.
Соборное всеединство во Христе, напротив, есть такое соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного
раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой свободы. В каждой Слово приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разно. Но слово каждой находит отзвук во всех, и все — одно свободное согласие, ибо все — одно Слово.
Крепкую веру в осуществление этой христианской соборности на земле свято хранит русский народ; именно вера эта делает русский народ в глазах Достоевского «народом-Богоносцем». Торжественное провозглашение и окончательное развитие этой идеи, которая вдохновляла Достоевского во всех его произведениях, мы находим в его последнем романе, о котором теперь будет речь.
В романе «Братья Карамазовы» Россия представлена в облике трех братьев, из которых третий, в своем тихом смирении, — как в сказках, — избранник судьбы.
Старший сын угрюмого Ариманова узника Федора Карамазова, простодушный и почти простонародный Димитрий. С крестьянами он сознает себя братски связанным, разделяет их веру, их жизненные ценности, их душевный строй. Как народ, чувствует он живую таинственную связь с Матерью-Землей (не случайно происходит его имя от Деметры) и в любящем приникновении к ней находит он силу, несмотря на ужасные душевные страдания, благословлять и хвалить жизнь и ее Создателя. И все же ему постоянно грозит опасность всецело стать добычею Аримана. От низких и преступных злодеяний необузданной страсти не спасает его и высокое душевное благородство, унаследованное от матери; не возрождают его и мгновенные великие и святые восторги. С мученическим сокрушением знает Димитрий не только об «ангеле», о «херувиме» в себе, который «Богу предстоит», но и о «насекомом», которому дано «сладострастье», как говорит Шиллер; «Гимн радости» и слова Шиллера о Церере (в «Элевсинском празднике»), скорбящей над униженным человеком, он неустанно, снова и снова, твердит, как молитву.* По-детски наивная и доверчивая, хаотически распущенная, порой по-животному необузданная природа Димитрия должна очиститься великим страданием. Это мученик дикой, но
крепкой Руси с ее низостями и ее старым здоровым укладом; через Ариманову тьму ее сквозит, однако, Святая Русь как тихое мерцание далекой светящейся церкви. Но верный Земле, которая спасает человека от призрачного, высокомерного и в себе заключенного самосознания, он свободен от Люцифера, как редко кто-либо, потому что никогда Ариману в себе не говорит да и аминь, но живет в ежечасном сокрушении о своем плене и низости и в покаянии о грехе.
Средний, ученый брат, Иван, сын светлой мученицы, второй супруги Федора Павловича, — представитель России люциферической, от народа отчужденной и народ соблазняющей. Атеизм его глубокомысленно-проблематичен, до возможности самопреодоления в разуме; следование Люциферу почти сознательно. Поэтому Ариманова тьма сгущается вокруг его люциферического свечения и порождает из себя, как его другое я, не только призрак «черта-приживальщика», но и действительность лакея Смердякова, который возненавидел Россию, потому что он бастард и сын блудницы. Иван, обезумевший от ужаса, отвращения и отчаяния, чувствует, как Ариман сплетает его с этим, его презирающим и его зеркально отображающим сообщником, — который его тем губит, что до конца угадывает его самую сокровенную волю и беспощадно исполняет ее, — в один нерасторжимый адский узел; он видит себя другим ликом отцеубийцы; этот — его. Не так ли сам Люцифер сплетен со своим черным двойником, его томящим?
Младший брат, Алеша, — весь в мать.
«Оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки («точно как будто она стоит передо мной живая»): запомнил один вечер летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца, — косые-то лучи и запомнились всего более, — в комнате, в углу, образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую, как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую крепко, до боли, и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу, как бы под покров Богородицы».
За нее, за мать свою, Алеша горько и на всю жизнь обиделся, — но не на отца, а на силу, отца одержащую, — на Аримана. От него он бежал, — но не к Люциферу, как вся новая Россия, как Иван, а к православным старцам.
Что с самого детства благодатно отмечает Алешу и как бы вводит его в святое святых его народа, это дар все превосходящей, трепетно горящей любви ко Христу. «Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания». Вот свет, который освещает его путь через адскую тьму, и рождает в душе его столь глубокий внутренний мир, что он идет вперед полон отваги и силы, даже жизнерадостности и счастья. По его собственным словам, он различает добро и зло только потому, что имеет перед собою Христов образ. Это алкание по Образу Единого, по белизне, чистейшей снега, по солнцу Воскресения, воссиявшему из глубин земли, вырастает в его душе, как в душе его народа, из жизни, погруженной во тьму, где Зло уже пренебрегает всеми личинами, из его постоянного противостояния лицом к лицу с черным призраком Аримана.
Изначально, de profundis рожденное томление по Образу Христову животворит, спасает, освящает — по Достоевскому — русский народ; русская душа, кажется ему, за века пролила столько слез перед этим Образом, отдала столько своих лучших сил на опыт Христовой веры, так много вложила из своего духовного достояния на приобретение единственной жемчужины, что ничего истинно творческого и совершить более не может, кроме того, что родится из той же веры и обращается, как прирост, в ту же сокровищницу. Он не перестает уповать на это, даже когда, вглядываясь в будущее, он познает, что и величайшая преданность не предохраняет от соблазнов отречения в годину испытаний тяжких, отречения всеобщего. Так он рассказывает в «Дневнике писателя» от 1873 г. — намекая на грядущую революцию, которую ясно предвидел — «о происшествии даже весьма характерном, с одной стороны, даже и на многое намекающем»: крестьянский парень (вероятно, соблазненный «нигилистом деревенским, доморощенным отрицателем и мыслителем») решил совершить на спор самое дерзостное деяние, взять ружье, прицелиться в украденное по приказу товарища на богослужении причастие. И вдруг — «и вот только было бы выстрелить» — он видит перед собой крест, а на нем Распятого и падает ниц с ружьем в руках, в бесчувствии, и несколько лет спустя на коленях приползает к старцу и просит «о страдании». Русский бунт против Бога и его последствия для души подвергаются
Достоевским на примере рассказанного случая глубокому анализу; Достоевский приходит к неожиданному заключению, что как раз такие «новые люди», кающиеся и некающиеся, скажут «последнее слово», что «они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход». «Богатырь, — так поясняет Достоевский эту мысль, — проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край... Рассказывают и печатают ужасы... Но... в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним неопровержимою силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божье. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки — свет и спасение воссияют снизу». Непоколебима вера Достоевского в народную душу, хранилище глубокого христианского чувства.
«Дело Божье», которое «начнет» русский народ, то есть первый шаг к перемене и просветлению всей жизни через христианское чувство, вероятно, то же, что и рождение «будущей самостоятельной русской идеи», о которой, в другом месте, Достоевский говорит, что «она у нас еще не родилась, но Земля ею чревата и готова родить ее в ужасных муках». Сколь ни был еще скрыт в далеком будущем предмет этого упования, Алешина миссия находится в явной связи с ним.
Алеша, этот, «пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, не выяснившийся», как извиняется за него перед читателем, загадочно улыбаясь, автор, этот «чудак», несущий, однако, в себе, быть может, «сердцевину целого», тогда как «остальные люди его эпохи, все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались», — Алеша, не зная того сам, полагает, по замыслу своего творца, основание третьей России, всецело отличной от второй, люциферической. Это — новая «Святая Русь», «Святая Русь» — дочь. Мать ушла от мира, затворилась в сокровенные обители, в старую родимую пустынь, в мир же послала свою возлюбленную дочь, дабы оживить Имя и Образ Христовы в памяти заблудившихся, чтобы снова бросить семя Христово в борозды нового времени.
Так как многим критикам Алеша, как тип и символ, представляется неясным, не из жизни взятым и пустым созданием отвлеченного мышления, следует удостовериться, не найдем ли мы уже при первом его появлении, в годы его юношеского развития (ведь дальнейшая его жизнь нам неизвестна), некий зародыш того религиозного дела, которое ожидается от этого «деятеля».
С исторической точки зрения нельзя, во всяком случае, отрицать, что огромный подъем религиозной мысли, с Владимиром Соловьевым во главе этого духовного движения, начинается непосредственно после призыва Достоевского.
Что же такое, однако, инок Алеша? Милый юноша, почти еще мальчик, ясного и веселого нрава, но рано восскорбевшего за себя и за других скорбию умудренного сердца. Свежий и стыдливый, как девушка; целомудренный до того, что при непристойных словах или действиях испытывает резкую боль и метафизическое содрогание; благочестивый без тени ханжества; к обрядности и жизни созерцательной, несмотря на свой подрясник послушника, не изрядно приверженный; но всегда готовый помочь там, где нужно, делом и добрым словом; умный без книжничества; привлекающий к себе, без старания о том, все сердца; ни на что не притязающий, ни к чему не жадный и, в качестве человека истинно свободного, не болеющий общим недугом эпохи — самолюбием, а потому вместе неуязвимый и неподкупный; юноша, не боящийся ни самостоятельного шага в жизни, ни смешной людям видимости, ни соблазнительной близости, ни рокового поворота житейских обстоятельств, ни испытующей его заветные верования ядовитой мысли; пылкий, но кроткий; участливый, но твердый; пожалуй, в самом деле, «ранний человеколюбец», даже до начатков прозорливости, во всяком случае до необычайного понимания души человеческой и ее сокровенных страстей, — однако, человеколюбец, не обещающий и в своей будущей, не рассказанной деятельности никаких подвигов, выходящих за пределы глубокой сердечной отзывчивости и деятельной помощи окружающим людям, — никакого рвения к деловому или героическому строительству людских отношений.
По словам автора, Алеша, если бы не верил в Бога, пошел бы в социалисты. Теперь же он, если угодно, немного народник религиозного толка, но отнюдь не политик, не революционер и даже (к сожалению для многих, ибо тогда все стало бы гораздо понятней) не активный реакционер: ибо, очевидно, по природе своей не способен ни мыслию, ни действием утверждать в жизни ничего, кроме свободы, равенства и братства, — только во Христе, а не в Люцифере, что, впрочем, равносильно, по мнению весьма
многих, «пассивной реакции». Он кажется в своем поведении, поистине, «непротивленцем», но и как таковой компрометирует себя, — при рассказе Ивана о каком-то помещике, затравившем собаками крепостного ребенка, — бесполезным в гражданском смысле восклицанием: «Расстрелять!...». Какая уж тут программа общественной деятельности! Впрочем, если приглядеться к Алеше ближе, в нем выступает, главным образом, именно общественник. Общественность, прежде всего, соединение людей; а вокруг Алеши все как-то само собой соединяется. Да и заканчивается изображенный в романе период Алешиной юности основанием, по его мысли и почину, братского на всю жизнь союза мальчиков, присягающих в вечной верности Илюшиной памяти и всему доброму, чему она учит, — а чему только ни учит она и религиозно, и морально, и общественно?
Символ основанного союза тем более значителен, что в пору его основания Алеша уже не мальчик. Помимо всего, им душевно пережитого в отношениях с братьями и с его суженою невестою, сделал его в духовном смысле мужем и мудрецом некий внутренний опыт, которого нельзя определить иным словом, как «мистическое посвящение». Я разумею то, что случилось с ним в монастыре по смерти старца, когда, после недолгого, но страшного люциферического «бунта» в глубинах души своей, он испытал неизведанный дотоле восторг и ощутил «явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его», когда «пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь борцом, и сознал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга», когда «кто-то посетил» душу его, после чего, через три дня он и вышел из монастыря, чтобы, по старцеву повелению, «пребывать в миру».
Итак, Алеша начинает свою деятельность в миру с установления между окружающими его людьми своеобразного соединения. Это соединение заключается не ради преследования какой-либо одной цели и не ради служения какой-либо одной идее: соединение это — конкретное и целостное, связывающее каждого из побратавшихся. Это соединение людей во имя одного близкого всем и всех собою друг с другом жизненно сроднившего лица при жизни ребенка и героя, мятежника и мученика, Илюши, ныне же по своем преображении смертию, уже не ребенка и не героя, не мятежника и не мученика, а самого цельного человека, каким он явится в день Воскресения, во всей единственности и
неповторимости образа своего, перед своими бывшими школьными товарищами, когда-то преследовавшими и мучившими его, но ставшими теперь нежнейшими друзьями и братьями во Христе.
Очень важно понять личный, реальный, целостный характер Илюшина братства. Связь между членами его не такова, что каждый из них отдает общению лишь нечто, обособленное в его сознании, отвлеченное от совокупности его душевной жизни, один какой-нибудь род своих сердечных чувствований, умственных запросов или волевых стремлений. Но подобна эта связь круговой чаще, в которой смесились однажды, в одну горькую и утешительную годину почти еще невинного детства целые жизни, смесились общая вина и общее прощение, как будто вся Илюшина жизнь легла навек на жизнь каждого, обогащая и претворяя ее, и каждая через Илюшу соприкасается с каждой. Все согласились в некоем торжественном «ты — еси», обращенным к Илюше, не в одном каком-либо его лике и деянии, но в его незаменимой целостности, в его глубинном бытии; и этим взаимно утверждена незаменимость, самоцельность, святость каждого, утверждена не в отвлечении и отрыве от целого, но через целое.
Можно с уверенностью сказать, что Илюшина память, верно сохраненная, спасет каждого из соединившихся через него от отчаяния и гибели, от последней уступки духу небытия. Каждый вспомнит, что была в его ранней жизни страница особенная, сияющие письмена которой были разборчивы и понятны детскому, еще чистому и простому взгляду, хотя бы многие черты и померкли впоследствии для взгляда, жизнию помутненного. Каждый вместит в себе живое присутствие Илюши, как нечто свое и уже неотъемлемое, не отделимое от него самого, в каждом он есть, и напоминает каждому, что можно быть, не участвуя в смене явлений; внутренний опыт бессмертия дан в этом опыте вечной памяти. И вероятнее всего — в каждом из участников взойдет через Илюшу семя веры в бессмертие души, в круговую поруку живой вселенской соборности, во Христа, им открывшегося в тех давних и единственных залогах сердца. И когда друзья постигнут в полноте Христову тайну, которую прочесть можно только в чертах ближнего, постигнут они и то, что союз их возник по первообразу самой Церкви, как общества, объединенного реально и целостно не каким-либо отвлеченным началом, но живою личностью Христа. Они постигнут, что сам Христос соединил их через Илюшу, Своего мученика, и что союз их есть соборное прославление в усопшем «святого» их малой общины.
Развивая намек, заключающийся в символическом рассказе об основании описанного союза, мы открываем принцип возвещенной Достоевским Алешиной «деятельности»: он должен положить почин созиданию в миру «соборности», или, если угодно «религиозной общественности», зиждущейся на взаимной любви во имя Христа и имеющей целью оцерковить всю жизнь. Если мы припомним, что Алеша намерен учиться в университете, то становится ясным, что идет он со своею миссией в Россию люциферическую, внутренне от Церкви отпавшую, общественные искания которой должны, следовательно, по мысли Достоевского, стать, прежде всего, исканиями религиозной основы и религиозного очищения человеческой жизни.
Когда происходит встреча деятельного люциферического начала с деятельным Христовым началом, носитель последнего подвергается испытанию от Люцифера по типу великого тройного искушения, изображенного в Евангелии. Деятельное начало Царства Небесного находит свои земные формы, и само дело представляется осуществимым и в основе своей упроченным — при условии приятия люциферических норм за основоположные. Если же проходящий через испытание деятель соблазняется и, в ревности об осуществлении дела, подменяет Христово начало иным, тогда его стремление разделяет судьбу всех люциферических попыток: достигнутое оказывается нереальным, обманчиво-призрачным, не касающимся существа вещей, несмотря на мнимую осязательность форм.
Имя и Образ Христа — вот все, что дано христианской «идее» для ее воплощения, нет для нее ни другого начала, ни другого мерила. Но каждая культурная форма основана на каком-нибудь принципе, почерпнутом из недр человеческого сознания, внеположного этому единственному Образу: следовательно, ни одна культурная форма не пригодна для строительства новой жизни, соответствующей «христианской идее».
Итак, это строительство будет, как в народном поверье, строением на земле церкви невидимой из невидимого камня, и сами строители и зодчие не будут чувственно воспринимать созидаемое ими, доколе невидимое не разоблачится во славе. Посылая своих деятелей творить в мире мир иной и в царстве иное царство, посылающие заповедуют: «Сотворенного и сотворяемого
по уставам человеческим не разрушайте, своего же дела по тем уставам не делайте».
В самом деле, поскольку творимая христианская идея не изнутри пронизывала бы собою наличные культурные формы, подвергая их имманентному суду своего всепоядающего огня, от которого бы они или переплавлялись в новые, или таяли и истлевали, как плоть мумий от внезапно пахнувшего на них воздуха, — а сама искала бы облечься в формы, уже выработанные культурою, — постольку она становилась бы частью последней и тем упраздняла и опровергала бы себя самое, приняв за основу еще иное начало, кроме живого Образа Христова. Она оказалась бы внешним союзом в союзе мирском, и в то время, как пыталась бы оцерковить мир, сама была бы уже с первого мгновения обмирщена. И как бы ни размежевалась Церковь с государством, она неизбежно вступала бы под власть государства или «перерождалась бы в государство», подпадая под то определение, какое дает Достоевский процессу, давно, по его небеспристрастному суждению, начавшемуся и поныне продолжающему совершаться на Западе.**
«По русскому же пониманию и упованию, надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди! «. «Христова церковь под Константином, вступив в государство, без сомнения, не могла ничего уступить из своих основ, от того камня, на котором стояла она, и могла лишь преследовать свои цели, раз твердо поставленные и указанные ей самим Господом, между прочим: обратить весь мир, а стало быть и все древнее языческое государство, в церковь».
Итак, по мнению монахов из окружения Зосимы, русское государство всецело должно само «сподобиться» стать церковью, ей же одной дано «владычествовать» на земле. Показательно при этом, что Иван, подымающий вопрос о теократии, еще несмелой и потому легко идущей на «компромиссы» с государством, произносит успокоительные слова о том, что «все это ничем не унизит его (государства), не отнимет ни чести, ни славы его — ни славы властителей его, а лишь поставит его с ложной, языческой и ошибочной дороги на правильную и истинную дорогу, ведущую к вечным целям». Монахи же, придающие мысли Ивана, им не новой, окончательный чекан, этих оговорок не повторяют, «компромиссы» и «сделки» начисто отвергают, наличным при
переходе государства в Церковь властителям не обещают ровно ничего и о формах грядущей теократии безмолвствуют столь же упорно, сколь твердо и ясно высказываются о ее духе. И действительно, какова может быть власть в обществе, наказующем преступления единственно «отлучением», как определяет за Ивана старец Зосима компетенцию предлагаемого Иваном и единственного в будущем обществе церковного суда? Не удивительно, что присутствующий при разговоре либерал и западник пугается революционного утопизма монахов.
Такова «самостоятельная русская идея», которая определяет деятельность Алеши в миру: русский союз должен стать настоящим религиозным союзом, историческое тело Руси должно «сподобиться» стать телом свободной теократии — столь свободной, что даже суд, эта последняя, тончайшая и, казалось бы, столь неизбежная форма принуждения, в ней больше не существовал бы. Но если и был бы осуществим этот идеал на Земле, как можно было бы претворить его победу, не изгнав дьявола силой князя ада, не противопоставляя принуждению принуждение, законам новые законы, историческим формам новые формы в той же исторической сфере, в сфере культуры?
Кто, победив прельщение Искусителя, хочет творит дело Христово, сначала сир и нищ, ибо не умеет он по-земному ни говорить, ни действовать. Так как не «от мира cero» он, то может случиться, что земную свою природу он умалит, а ведь ради земли он был в мир послан. Он не находит себе места среди людских дел, и негде ему приклонить главу. Старец Зосима знает, как трудно избранному в начале его пути, но не страшится за него, твердо уповая, что сердце имеющего веру не уступит страху. «Правда, — усмехнулся старец, — теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преображения из общества, как союза почти еще языческого, во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предвидении Его и в любви Его. И что, по расчету человеческому, может быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие последнее буди, буди!»
Всякое отвлеченное начало, в силу отрицательной природы своей, принудительно. Лишь из него развивается правило, развивается нормативный ряд. Чтобы конкретное, которое может только случайно быть насильственным, стало принудительным, оно должно сначала определиться, как отвлеченное начало. Принудительна наука — не менее, чем государство. Ясно, что соборность, основанная на Христе, этой величайшей конкретности христианского сознания, чужеродна культурному строительству с его принудительными уставами. Поэтому религиозные истины не должны быть основаны на доказательствах, принудительных для разума. Конечно, мы находим внутри церкви, как божественной институции, законы и правила, послушания и иерархию; но их воспримет как абстрактные начала только тот, кто внутренне чужд христианской соборности.
Некая конкретность есть то, что народ назвал «святою Русью», не возводя этим в отвлеченное начало эмпирических наличностей народа или государства, но с другой стороны, не разумея под «святой Русью» и того одного, что в народе свято, — что также было бы отвлечением, — а знаменуя заветным именем благочестиво и любовно конкретную религиозную общественность, основанную на конкретных личностях самого Христа и неоскудевающих, по народной вере, на родимой земле верных Христовых свидетелей, святых Его, тех «семи праведников», о которых говорит старец Зосима, что на них стоит христианское общество.
Святая Русь есть Русь святынь, народом воспринятых и взлелеянных в сердце, и Русь святых, в которых эти святыни стали плотию и обитали с нами, далее же — широкая округа, этой святости причастная, ее положившая во главу угла, в ней видящая высшее на земле сокровище, соборно объединяющаяся со своим богоносным средоточием внутреннею верностью ему в глубинах духа, не отделимая от него, при условии этой верности, и самим грехом, — все, одним словом, что нелицемерно именуется Христовою православною Русью. Никакое влечение к национальному отъединению не затемняет в народе его кафолическую веру; о восточной схизме не знает народ в общем ничего. К этой духовной соборности народа относятся слова Достоевского (который, однако, о схизме знал): «Русский народ весь в православии. Более в нем и у него ничего нет, да и не надо, потому что" православие все... Кто не понимает православия, тот никогда и
ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа».
Признак коренного духовного родства с этою Русью, Русью Святой, есть любовь к святости и предпочтение ее всем венцам и славам земли. Оторвавшиеся от общения с народным богочувствованием если даже признают святость некоторою условною ценностью в ряду высших духовных ценностей человечества, то уже во всяком случае ставят не ниже ее, а любят, конечно, гораздо живее и пламеннее другие превосходные свойства, достижения и владения человека, как возвышенный и запечатлеваемый самопожертвованием нравственный характер (поскольку здесь ценность моральная противополагается религиозной или отвлекается от нее), в особенности же человеческий гений. Допуская святость как высшую ценность, Достоевский тем допускает факт такого таинственного перерождения, которое делает человека уже на земле существом иной, более божественной природы. Он понимает, что ни с чем не может сравниться радость народа, когда на его людской ниве, среди чахлых колосьев, заглушаемых плевелами, выростает, в Боге родившись, начаток божественных всходов иного человечества, колос как бы евхаристический в котором Дух Святой незримо пресуществил землю в солнце, зерна пшеничные — в плоть Агнца.*
Для Достоевского творческие откровения человеческого духа органически связаны с «духовным творением» незримых деятелей святости, которая непосредственно связывает Землю с «мирами иными». И поэтому я уверен, что не мог бы восстать Дант, если бы не подвизался ранее святой Франциск Ассизский. И Россия не могла бы в прошлом веке достигнуть того мощного расцвета своих творческих потенций, если бы не жил незадолго на Руси, в Саровской отшельнической келье, как чистый сосуд лучащейся духовности, старец Серафим. От святых исходят эпохальные импульсы к высшему сознанию. Они подобны чувствилищам, которые земля протягивает в высшие миры, и нервам, которые передают земле их воздействие. В поучениях старца Зосимы мы читаем: «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад Свой, и взошло все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным». Так, вспыхивает в высших проявлениях гения нечто от святости; ибо гениальная душа в постоянном росте своем и вспышках пробуждающейся в ней
творческой воли открывается «касаниям миров иных», делается восприимчивою к воздействию на нее сил невидимого мира, какими, прежде всего, являются, по своем конечном освобождении от всех уз отрицательного самоопределения личности, те великие и воистину Христа вместившие души, коих церковь чтит под именем святых.
Живое чувствование направительного участия великих отшедших в жизни живущих мы встречаем во всех религиях, мистически углубивших исконный культ мертвых. У Новалиса чувствование это обострено до чрезвычайности; оно же ярко вспыхивает порою у Гете. Просветленные духи-деятели уже не отрицательно самоопределяются, как личности, действуя, подобно нам, от себя и за себя; напротив, положительно, — отождествляясь в действии с тем, кто их вдохновение приемлет. Как Лоэнгрин, они скрывают свое имя и происхождение от души, к которой приближаются, как к невесте. Они суть истинные отцы наших благих дел, мы же на земле-матери, вынашивающие их и в муках рождающие. Но дело деятеля, без сомнения, — его дело, как дитя есть воистину дитя своей матери, — однако не исключительно его. И высшее в человеческом творчестве есть самораскрытие души осеменяющему ее Логосу, по слову: «се, раба Господня».
В «Братьях Карамазовых» не Зосима ли, уже почивший, удерживает в решительную минуту Димитрия от отцеубийства? «По-моему, господа, — говорит Димитрий на допросе, — по-моему, вот как было: слезы ли чьи, мать ли моя умолила Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение, не знаю, но черт был побежден». Это загробное лобзание, по замыслу художника, завершает коленопреклонение старца перед Димитрием в келье — коленопреклонение, предвещающее Димитрию будущее искупляющее страдание. И не тот ли же Зосима «посещает» душу Алеши в решающий час, когда он «пал на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом».
Общение с ушедшими столь существенно обусловливает мистическую жизнь христианской общины, что мы после этих замечаний ясно видим, какой глубокий религиозный смысл принимает союз, основанный в вечную память Илюши.
Признание святости за высшую ценность — основа народного миросозерцания и знамя тоски народной по Руси святой.
Православие и есть соборование со святынею и соборность вокруг святых. Достоевский неоднократно указывает на подмеченное им в народе верование, что земля только тем и стоит, что не переводится на ней святость, что всегда есть где-то, в пустыне, в непроходимых дебрях, несколько святых людей. Православный мир располагается кругами окрест этого таинственно рассеянного братства и, как ни черен по своей окружности, все же духовно жив живоносными притоками как бы самой Крови Христовой из этого своего средоточия, из этого сердца, пламенеющего и воздыхающего к Духу «воздыханиями неизреченными». Кто же отрывается от внутреннего общения со святыми, отрывается и от православия; и наоборот, отметающий православие уходит и от его святых.
Такова крепость Руси святой, воздвигнутая в недрах народных против силы Аримановой. Крепость эта незыблема и неодолима; но война ее с князем мира cero за землю не решена. Однако, противная сторона ослаблена междоусобием; а дому или царству, разделившемуся в себе, не устоять. Динамизм люциферического процесса изгоняет Аримана из сферы своего действия, хотя и не радикально и более феноменологически, чем по существу. Он рушит и плавит формы Ариманова самоутверждения, и Ариман должен забирать потерянные пространства сызнова и по-новому, как только что снятая плесень опять нарастает на той же поверхности, пока не изменится состав притекающего воздуха. Вот, между прочим, причина положительной оценки Петрова дела у Достоевского.
Ближайшее же окружение крепости непременно должно быть кольцом осаждающих ее Аримановых полчищ. Бесы привлекаются святынею, рыщут вокруг нее, подобно стаям шакалов, и бред отца Ферапонта, противника Зосимы, — что все вокруг Зосимы кишит чертями, — бред ясновидящего и не разумеющего, что он видит. Но Зосима и сам готов отдать этим тьмам духов небытия все, чего они требуют с неким правом; кричат же они «тленному тление!». И с этою тайною рассечения личности на тленное и нетленное, с тайною смерти посеянного зерна, необходимой для его воскресения и плодоношения, связан глубокий и жестокий символизм «тлетворного духа»...
Роман «Братья Карамазовы» пророчит, что грядущая Россия будет представлять собою в духе зрелище иного, чем прежде, соотношения трех описанных сил. Русь святая не просто будет выдерживать осаду Аримановой тьмы, а сооружения последней
стираться динамизмом России люциферической, как стираются затеи зимы солнцепеком короткого северного лета. Но святая Русь вышлет своих борцов в гущу Люцифером обладаемой культуры и пронзит ее незримыми лучами тайно действующей Фиваиды.
Достоевский не успел возвестить, как это будет совершаться, но предопределил, что быть должно. Его роман написан о «миссии русского инока»; но под иночеством разумеет он, по преимуществу, новый таинственный постриг, никаким внешним уставом не определенное и не определимое послушание и подвижничество в миру. Посылается это безымянное и неуставное иночество на людскую ниву не затем, чтобы полоть плевелы, которые, по слову Христа, должны расти вместе с колосьями до жатвы, но как посылается на ниву тепло солнечное и дождь оживляющий во благовремение. Русская жизнь должна быть вся насквозь пронизана иным началом, чем доселе действовавшие в строительстве жизни. И, пронизанные им, все формы насилия и принуждения и организованной лжи рушатся — эти внезапно, те медленным и постепенным истлеванием, одна за другой, — между тем, как формы, могущие вместить начало Христово (каковы все формы творчества и познания), будут преображаться и дадут невидимый расцвет, и шиповник сам захочет стать розою. Но ни одно действительно освобождающее и единящее людей начинание, на каком бы первоначальном принципе оно ни было основано, не может быть отменено и пресечено действием принципа всеединящего, всеутверждающего, всечеловеческого. Есть глубокий, все виды человеческого делания охраняющий смысл в евангельских словах о том, как из двух, сотрудничающих и одинаково признаваемых освободителями, один действительно освобождает, а другой закрепощает, и из двух, признаваемых созидателями, один творит, а другой разоряет.
Христианская соборность будет невидимым и целостным объединением отдаленнейшего и разделенного состава, действенно пробуждающимся и крепнущим сознанием реального единства людей, которому люциферическая культура противопоставляет ложные марева многообразных соединений на почве отвлеченных начал. Эта соборность, которой ничего не дано, чтобы победить мир, кроме единого Имени и единого Образа, для внутреннего зрения являет, однако, по мысли Достоевского, совершенное соподчинение своих живых частей и глубочайший гармонический строй. И, по признаку своего внутреннего строя,
она может быть определена, как агиократия, как господство святых. Агиократия предуготовляет уже ныне свободную теократию (как называл ее молодой друг Достоевского, паломничавший с ним в годы, когда он, беседуя с монахами и старцами, изучал идеалы русской мистики и аскезы, великий Владимир Соловьев), — предуготовляет обетованную будущность воцарившегося в людях Христа.
Вяч. И. Иванов. Собрание сочинений. Т.4. Брюссель, 1987, С. 483—588
© Vjatcheslav Ivanov Research Center in Rome, 2010